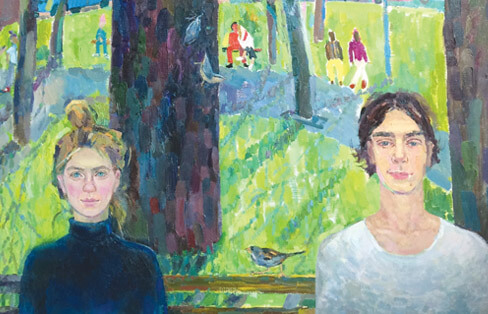
Услышать друг друга
- 30.11.2022
Непонимание между поколениями «отцов» и «детей» в консервативном поле современной литературы объективно существует. К счастью, оно проявляется не в области собственно художественного творчества, а в принципах организации литературного процесса и в восприятии современной литературы и мира в целом. Как руководитель Совета молодых литераторов СПР, я нахожусь в центре этого противостояния: с одной стороны, прекрасно зная и понимания «детей», с другой стороны — непрерывно контактируя с «отцами». Я все пытаюсь быть фильтром, пропускающим в обе стороны лишь то, что может быть хоть как-то понято и принято, собирая в себя всю шелуху, но глубина пропасти огромна, и у меня все меньше надежд на понимание. В этом выступлении мне хотелось бы посмотреть на ситуацию глазами «отца нашего Шекспира» и в объемном виденье примирить оба мировосприятия. Но я не могу этого сделать, потому что при всей моей любви и уважению к «отцам» ясно вижу те изъяны в их позиции, которые губительны для нас всех, и не знаю, как мне об этом молчать.
Не могу еще и потому, что в суждениях Вячеслава Дмитриевича Лютого, наверно, самого мудрого и уважаемого мною представителя старшего поколения, слышу ту самую ноту «отцов», отчищенную от эмоций и обид, взвешенную и ясно сформулированную, но содержащую в концентрированном виде все предубеждения относительно «детей» и все возможные скелеты в шкафу. И единственное, что я могу сделать, это попробовать отчистить свои дальнейшие слова от лишних эмоций и взять такую же точную и ясную ноту, но со стороны «детей».
Мы могли бы сойтись в точке, которая нас объединяет, этой точкой является традиция. Наша единственно возможная русская пушкинская традиция (понимаемая в смысле известной статьи Глушковой «Традиция — совесть поэзии» не как следование каноническим формам, а как причастность к единому потоку русской жизни). Обернувшись назад к нашей классике (от Пушкина до поколения «дедов»: деревенской прозы, тихой лирики, русских критиков-неопочвенников), мы увидим, что она одинаково дорога нам, что мы не мыслим себя в отрыве от нее. Но остановиться на этом объединяющем начале и не посмотреть друг на друга — значит проигнорировать существующие и разрушающие наше общение противоречия, пульсирующие здесь и сейчас. Мне кажется, это было бы неправильно.
Поколение «отцов» сформировалось в позднюю советскую эпоху, пережило вместе с ней ее относительное бытовое благополучие и бурю общественной борьбы. Развал страны, расстрел парламента в 1993 году стали для него высшей точкой трагедии, а вся дальнейшая жизнь — борьбой за существование и сохранение нравственных ценностей во враждебном мире. В этом смысле очень точно сравнение Вячеслава Лютого с поколением эмиграции после 1917 года, потому что старшее поколение и правда ушло в своеобразную внутреннюю эмиграцию. Мир вокруг воспринимался ими апокалиптически (вообще представление о случившемся апокалипсисе очень характерно для прозы, осмысляющей 90-е: скажем, в романе Веры Галактионовой «Спящие от печали» — в концентрированном виде, в «Заполье» Петра Краснова или «Запретном художнике» Николая Дорошенко — разлито по тексту). А единственный способ сохраниться в мире, охваченном злом, — христианские катакомбы первых веков, то есть создание небольших замкнутых групп для «своих», где сохраняются общие ценности, утерянные в большом мире. Такой катакомбой является, например, сайт «Российский писатель», такими катакомбами являются некоторые литературные объединения и писательские организации в регионах. Наверно, это было единственным выходом в то время.
Но прошло тридцать лет, и мир вокруг изменился. И оказалось, что он не является воплощением зла и графомании, что литература дышит и там, что настоящие писатели существуют и там, просто они зачастую не готовы признать незыблемость догматов катакомбы, хотя дух их может быть вполне созвучен традиции. Уйдя во внутреннюю эмиграцию, большая часть старшего поколения перестала интересоваться внешним миром, потеряло адекватное представление о нем, об острых проблемах литературного процесса, о вызовах, которые стоят перед всеми нами.
Современное поколение «сынов», чье взросление и становление проходило уже после развала СССР, остро чувствуют эту проблему. И здесь сравнение Вячеслава Лютого мне кажется не совсем корректным — «сыны» похожи не на детей эмигрантов, скорее, это первое советское поколение, воспринимающее новые условия жизни не как апокалипсис, а как реальность. Мир действительно изменился. Если взять метафору из серьезного фэнтези (которое в своих лучших образцах является точным индикатором состояния общества): мир из толкиновского превратился в мартиновский. В нем действительно исчезли нравственные координаты, единые для всего общества, и это не вопрос нашей воли и нашей борьбы — это объективность, которую необходимо принять. Но отсутствие единых координат не означает их отсутствия в каждом конкретном человеке и не означает их отсутствия в мире. Просто нравственные координаты теперь стали делом личности, а не общества. Поколение «отцов», выросшее в советское время, не знает, что делать с этим и как ориентироваться в ситуации, в которой нельзя мыслить категориями общего, — у них нет механизмов познания такого мира, и единственный способ — объявить мир целиком враждебным. Поколение же «сыновей» не чувствует растерянности. Нельзя отчаянно бояться места, где вырос и к которому привык.
Взамен стройности единой картины мира у «сынов» появились естественные механизмы, позволяющие существовать и спокойно разбираться в «новом» мире (и этого категорически не могут понять «отцы»). Во-первых, «сыны» имеют прививку от информационного влияния — поколение, знающее интернет, гораздо более защищено от манипуляций и гораздо менее наивно в этом смысле, чем советские люди. «Отцов» в конце 80-х завели в информационный лес, и они там потерялись, а нынешние живут в лесу спокойно и на подкорке мозга знают, как обходить опасность. Примитивными манипуляциями сейчас можно воздействовать только на очень молодых людей, заряженных на протест и самовыражение любыми способами. Даже двадцатилетние уже сомневаются в правдивости любой поступающей к ним информации. Во-вторых, «сыны» достаточно ясно различают пошлость в мире. Кажется, опять на «Российском писателе» встречал рассуждения о негативном влиянии на современную молодежь того, что показывают по телевизору (насколько я помню, имелся в виду новогодний «Голубой огонек»). Автор текста, видимо, не знал, что молодежь не смотрит и никогда не будет смотреть ни «Голубой огонек», ни вообще Первый канал — именно по причине пошлости и низкого уровня. В-третьих, степень распущенности поколения «сынов», безусловно, выше, чем у «отцов», но все-таки отзывчивость их на реальный «грех» сильно преувеличена. Скажем, целующиеся на сцене форума «Таврида» девочки никого из молодых участников смены (от 18 до 35 лет) не совратят, потому что в этом возрасте все прекрасно знают, что гомосексуализм существует и уже давно определились внутри себя, как к этому явлению относиться (притом я, как вы понимаете, не сторонник нетрадиционных отношений, не сторонник траты бюджетных средств на их пропаганду и понимаю, что в данном случае организаторы форума просто не просчитали возможность провокации). Не знаю, стоит ли здесь напоминать, что первое «советское» поколение, тоже наверняка, по мнению эмигрантов, «лишенное нравственных координат», сгорело в войне, и во многом именно его жертве мы обязаны нашей Победе. Моя метафора весьма произвольна, и нэп у нас не закончился, но мне было важно показать, что промыслительная воля подчас мудрее «очевидных» мнений даже самых разумных людей.
В этой ситуации нет правых или виноватых, нет лучших или худших — есть исторические обстоятельства, сформировавшие и то, и другое поколение. Однако время идет вперед, и строить будущее на основании скелетов в шкафу невозможно. И важнейший вопрос, который непосредственно завязан на различиях в подходах двух поколений, — это вопрос о дальнейшем развитии нашего писательского Союза. И на этом вопросе хотелось бы остановиться подробнее.
Существуют две модели, в рамках которых может развиваться Союз писателей России. Нельзя сказать, что это модель «отцов» и модель «детей» — скорее, одна из них несостоятельна и опирается на худшее в позиции «отцов», а вторая — единственно возможна, объединяющая все здоровое у тех и других. Первая — прямое следствие страха внешнего мира, желания уйти во внутреннюю эмиграцию — основана на желании занять оборонительную позицию и создать катакомбу на 8 тысяч человек. Сторонники такой модели жестко разделяют литературный мир на «наших» и «ненаших», пропагандируют идею невозможности «двойного членства» в разных писательских союзах, оперируют при этом псевдорелигиозными категориями (сотрудничество с СРП — экуменизм и т.д.), призывают принять невообразимые декларации, навсегда отделив «агнцев от козлищ». В метафизическом «лесу», который ты не можешь понять, легче всего придумать простейшие первичные признаки для различения добра и зла, чтобы хоть как-то ориентироваться (а еще надежнее закрепить их юридически). Но к литературе это не имеет никакого отношения.
Вторая модель — модель Союза писателей, находящегося или пытающегося находиться в центре современного литературного процесса, собирая вокруг себя все талантливое и умное. Это вовсе не значит, что внутри него отсутствует иерархия, одними из главных критериев которой являются как раз-таки соответствие традиции как единому потоку русской жизни и художественная ценность как мера правды и глубины художественного образа. Но в этой модели не отсекают талантливое по причине несоответствия общественной установке и духу катакомбы. Взять ответственность за всю современную русскую литературу, а не за ее кусочек — вот задача такого Союза. Но для этого необходимо отказаться от оборонительной тактики. Такой Союз я нахожу внутри себя как идеальный образ. Этот Союз для меня — воплощение единой большой русской литературы в современном ее состоянии. Я не знаю, например, состоит ли в СПР Алексей Иванов, не знаю, состоял ли в СПР Олег Павлов, но для меня они — Союз писателей, потому что это крупнейшие современные прозаики. Это же касается и молодого поколения. Юрий Лунин, Максим Алпатов, Елена Жамбалова, Дарья Ильгова, Константин Комаров — внутренне я воспринимаю их частью Союза (хотя и уважаю их самоопределение или не-определение). Идея общего большого Союза может сплотить и «отцов», и «детей», потому что запрос на единый литературный процесс чрезвычайно высок. И тогда не имеет никакого значения, состоит ли хороший писатель в другом союзе, важно, что он у нас — и с ним и мы становимся сильнее. Повторю еще раз эту формулу: Союз писателей — это вся подлинная современная литература. Достижение этой задачи вряд ли возможно, но направление движения, на мой взгляд, единственно верное.
Оборонительная тактика и стремление быть частью, а не целым — первая и ключевая проблема, следующая из психологии катакомбы. Вторая проблема — практически полное отсутствие профессиональной критики в «нашем» литературном процессе. Ведь настоящая критика это, прежде всего, поиск истины, попытка разобраться и найти объективность. Но в состоянии внутренней эмиграции во внешнем мире истины априори быть не может, все внешнее можно только ругать. А внутри истина как будто и так есть, а значит и искать, и разбираться, по сути, не в чем. Я с большим удовольствием читаю статьи Вячеслава Лютого; приятно мне стремление журнала «Родная Ладога» к философской критике, продолжающей традиции «Москвы» Бородина и Кокшеневой; случаются иногда отдельные радостные находки, но подавляющее большинство того, что выдается за критику в консервативном литпроцессе, — это эссеистика или публицистика (тогда как, скажем, во внешнем поле остался академический журнал «Вопросы литературы», да и в некоторых условно «либеральных» толстых журналах и электронных ресурсах современная критика существует и развивается). Я говорю это не чтобы унизить нас, а чтобы поставить одну из самых острых проблем консервативного поля, напрямую следующую из скелета в шкафу поколения «отцов».
Критика — это уважение к явлению, даже если оно негативно или имеет отношение в основном к литературному процессу, а не собственно к подлинной литературе. Существует, например, уральская поэтическая школа — мощный концепт, и дело не в том, чтобы брезгливо отмести его, а в том, чтобы разобраться в причинах его существования. В 2000-е годы существовал «феномен Сенчина», автора вне-художественной прозы, которая вызывала восторг (сейчас то же самое происходит с текстами Александра Снегирева). И важно было не просто оценить качество текста, а еще и увидеть, что Сенчина ценят за специфическую «правду», выражающуюся в стремлении не сфальшивить против реальности в «светлую» сторону (не задумываясь о беспрерывном уходе в крайность противоположную). И кстати, подобное явление имело место и в XIX веке, но в отличие от сегодняшнего дня о Писемском серьезно высказывались тогда все большие критики.
Взамен критического осмысления мы зачастую имеем информационную войну: «наши» идеи и «наши» авторы должны быть продвинуты, а враждебные — подвергнуты порицанию. Но что мы называем враждебным? Яростную русофобию — так она и не нуждается в опровержении, как не нуждается в опровержении все маргинальное. Игру ради игры в литературе — так она уже лет двадцать как не в мейнстриме. Либерализм — а что мы понимаем под этим термином: публицистику в духе «Нового мира» Твардовского или работы крупного критика Ирины Роднянской — или вдохновенный поиск без надежды обрести опору от тонкой и чуткой к любому проблеску таланта Валерии Пустовой? Пусть информационной войной занимаются публицисты вроде Захара Прилепина, давайте займемся делом, где есть «познание» и «воля» критика, а не только желание «как можно сильнее прокричать свое, пусть неглубокое» (потому что глубокое кричать невозможно, его можно только открывать в результате напряженного и последовательного поиска).
Второй важный вопрос, который отличает «отцов» и «детей», — это отношение к понятию «личность» и соотношение личного и общественного в жизни. Для «отцов», сформировавшихся в советскую эпоху, общественное выше личного, и мера признания этого первенства определяет для них меру любви к Родине (кстати, это свойственно и для «отцов» в либеральной части литературного процесса, только там общественное принимает форму антисоветского). С позиции «сына» я согласен с этим, но не как с безусловной установкой, которую «нужно» разделять. Признать общественное важнее собственного — это, прежде всего, выбор личности, а не некий наперед заданный нравственный закон. И если это выбор сознательный и твердый, а не просто следование навязанной норме, то это — высочайший уровень развития личности и может внушать огромное уважение. Но опять-таки первична здесь для меня сама личность и ее выбор. Поколению «отцов» же зачастую не важно, происходит принятие установки свободно или бездумно, глубоко ли укореняются «правильные» истины внутри или же остаются на уровне формулы.
Старшее поколение легко оперирует «безличными» категориями в духе Спинозы или Владимира Соловьева: «смысл существования России», «русская идея», «русский дух», «традиция», «нравственность» — зачастую это остается на уровне публицистики определенного направления, не спускаясь на уровень философской метафизики, возможной лишь там, где начинается самопознание и самоопределение личности. Замечательно это показано у специалиста по русской философии конца ХХ века Николая Ильина в его книге «Трагедия русской философии». Характерное следствие глубоко советского в плохом смысле стремления к подавлению личности — «комплекс родителя», знающего как правильно, а как неправильно, что нравственно, а что безнравственно, желающего всем вокруг «причинить добро», — явление чрезвычайно распространенное у поколения «отцов».
Конечно, так выглядит ситуация со стороны субъективного взгляда «сына», на деле же недостаточное внимание к личности и ее свободе стократ компенсируется у поколения «отцов» духовным напряжением жизни и умением больше действовать, чем рефлексировать о возможном действии, умением тащить на себе жизнь по установленной колее к тому, что воспринимается как добро. Это разные способы бытования в мире, обусловленные разными историческими условиями становления поколений. И потому с точки зрения публицистичности жизни поколение «отцов» кажется мне сильнее, но с точки зрения глубины осмысления подход «сынов» — перспективнее (с этой разницей связано, кстати, и то, что из двух крупных прозаиков, тридцатилетних Андрея Антинина и Юрия Лунина, «отцы» выше ценят близкого им по общественному пафосу Антипина, а «сыны» — психологически глубокого Лунина).
Разговор о личном и общественном — это еще и вопрос об идеологии. Мне кажется, «идеологический» компонент возникал в русской литературе вовсе не благодаря тому, что сейчас понимают под словом идеология. Просто в какой-то момент крупная личность пленялась идеей, начинающей жить внутри нее и гореть, и тогда возникали и «Кто виноват?», и «Что делать?», и «Мать», и «Как закалялась сталь». Точно та же — природа воплощения идеи русского сопротивления в уже упомянутом мною романе Веры Галактионовой «Спящие от печали». Именно это горение личности, вдохновленной идеей и готовой ради нее на все, и определило «идеологичность» данных произведений — но при этом само горение было глубоко субъективно и лично — и потому, скорее, противоположно общественному смыслу понятия «идеология».
Впрочем, результаты даже такого горения вовсе не являлись высшей точкой развития русской литературы, потому что подлинная ее традиция зародилась в пушкинских поисках «истинного романтизма» и объективации и воплотилась в точной и чистой ноте рассказчика «Капитанской дочки». Эта точка виденья была по возможности очищена от субъективного напряжения, из нее мир обозревался — в его целостности и полноте — незамутненным пусть мощной и яркой, но все-таки субъективной авторской страстью. Русская критика ценила этот объективный взгляд выше идейной страсти и тщательно отслеживала его развитие (скажем, в работах Николая Страхова о связи образа Белкина с образом автора «Войны и мира»). Позже в русской литературе появился новый метод, а именно — столкновение идей, воплощенных в личностях (первым заговорил об этом Розанов в статье о Великом инквизиторе, а потом это нашло воплощение в спекуляциях на тему полифонии Достоевского у Бахтина), но в любом случае и этот метод был также крайне далек от субъективного горения личности автора одной идеей и уж точно бесконечно далек от прямой идеологии.
И здесь условная позиция «сынов» по отношению к первичности категории личности кажется мне более зрелой. И как ни парадоксально для кого-то, более близкой нашей национальной традиции.
В отношениях между «отцами» и «детьми» важную роль играет поколение «дедов», и не сказать здесь о нем значило бы не показать ситуацию во всем ее объеме. «Деды» — это или молодые фронтовики, или дети войны, зачастую это люди с крепким нравственным стержнем — цельные личности, выточенные как бы из одного куска камня. Я хорошо знаю это чувство, когда приезжаешь в регион и встречаешь там писателя старшего поколения, который вдруг скажет что-то простое, но весомое, и словно Лобанов через него к тебе обратился, и нравственное зерно то же, и даже интонация та же. Отношения с такими людьми выстраиваются сами собой на их безусловном духовном первенстве, но они не утверждают это первенство специально, не требуют его. Тот же Михаил Лобанов, будучи втрое старше нас, его студентов, никогда не подавлял нас, мы всегда видели только интерес к нам и уважение к нашей свободной воле. Как вам писать и думать — ваше дело, словно бы говорил он, но я сейчас скажу вам, как думаю и вижу я, и я всей своей жизнью доказал право так думать и видеть — и мы слушали и в каком-то смысле безусловно подчинялись, но это происходило органично, без напряженного нравоучения (как это зачастую делают «отцы»).
Поколение «дедов» — это поколение титанов: и нравственных, и творческих. Если говорить непосредственно о критике, то для меня вполне очевидно, что Кожинов, Лобанов и Палиевский — фигуры полета Белинского, Григорьева и Розанова, высокие ноты традиции, нуждающиеся в осмыслении. Их младшие современники, «отцы», зачастую испытывают вдохновенное поклонение перед их борьбой за русскую идею, но игнорируют вклад собственно в литературу. Или же настолько уважают их авторитет, что принимают наследие «дедов» безусловно, не умея или не желая переработать его творчески (подобно тому, как Чернышевский в статьях о Белинском мог лишь цитировать его огромными кусками, изредка вставляя свои одобрительные комментарии). На первом круглом столе Совета по критике уважаемый и любимый мною Юрий Павлов сказал: все, что нужно знать о назначении критика, читайте в работах Кожинова «Самое легкое и самое трудное дело» и «Познание и воля критика». Это отличные статьи, и я признателен Юрию Михайловичу за то, что в свое время открыл их, но неужели в двух крошечных заметках Кожинов высказал все раз и навсегда? Разве не появились у нас сейчас новые вызовы, например, крайне востребованная сегодняшним читателем «рекомендательная» критика а-ля Галина Юзефович или Лев Данилкин? Можно ли говорить на языке этого формата, но не уходить в коммерческую рецензию, а оставаться в поле поиска истины? Нуждается в глубоком осмыслении, например, вопрос о новаторстве подхода к психологическому образу у Лобанова (вопрос, имеющий богатую предысторию: берущий начало в «психологическом вопросе» Павла Анненкова; разработанный Константином Леонтьевым в статье «Анализ, стиль и веяние…» на материале романов Льва Толстого; доведенный до целого мира в работах Лидии Гинзбург). А, например, вопрос о внеязыковой природе художественной литературы, о котором говорил Палиевский: погружение в него дало бы нам пищу для трезвого осмысления многих современных поэтических опытов, находящихся в сфере языковых или смысловых находок (опять же — дело не в том, чтобы брезгливо отмахнуться, а в том, чтобы понять суть проблемы). И, пожалуй, самое важное — поставленный двести лет назад и вполне решенный русскими критиками второй половины ХХ века вопрос о художественной ценности (как объемной и объективной правде о мире, воплощенной в личности). Наследие «дедов» огромно — и «отцам», и «детям» есть, что найти в нем (не игнорируя и противоречивость вопросов, которые уж никак нельзя свести к схеме «либералы-патриоты», — скажем оторванность Юрия Кузнецова от пушкинской традиции по Глушковой или настойчивое сопоставление Белова и Битова у Кожинова). И это — только критика (достижения «дедов» в поэзии и прозе общеизвестны).
И вот мы опять вернулись к тому, что традиция и, в частности, ее последняя полноценно взятая нота, чрезвычайно высокая нота поколения «дедов», — это то, что нас действительно объединяет. Что же касается совместного существования в организации литературного процесса, видимо, есть лишь один выход: научиться слушать друг друга и принимать друг друга при всех различиях и противоречиях. Отцам — уважать свободу личности, понимать острейшее нежелание находиться в оборонительной позиции и стремление объединять все, что имеет художественную и критическую ценность в современном литературном процессе. Принять молодых как вполне состоявшихся здоровых тридцати-сорокалетних людей, которым достаточно только доверия, чтобы работать. А сынам понять, что доверие подразумевает ответственность, что они тоже отвечают за наш Союз и за современную литературу. Уважать отцов за их опыт и профессионализм, понять их желание быть для нас тем, чем были «деды» для них. Сказать спасибо за катакомбы, в которых хотя бы «принято» говорить о традиции, в которых существуют великие Кожинов и Лобанов, мы и не знали бы их без работы отцов по сохранению наследия.
Принять отцов с их трагедией и судьбой. Судьбой, которой у нас пока еще нет.
Андрей Николаевич Тимофеев родился в 1985 году в городе Салавате республики Башкортостан. Окончил Московский физико-технический институт, Литературный институт им. А.М. Горького (семинар М.П. Лобанова). Публиковался в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Бельские просторы», газете «День литературы». Победитель 3-го литературного славянского фестиваля «Золотой Витязь», лауреат премии им. И.А. Гончарова. Председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России. Живет в Москве.







