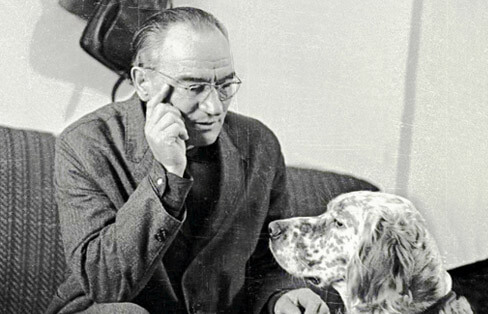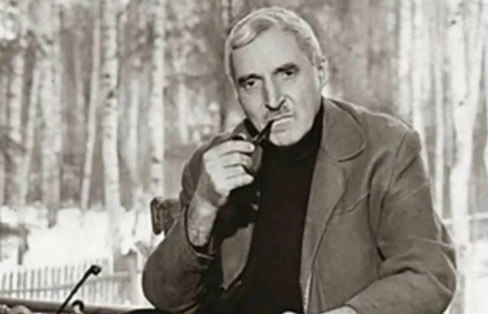Игра в Онегина
- 12.11.2025
…Между прочих был приезжий из провинции, который сказывал,
что твои стихи не в моде, – а читают нового поэта,
и кого бы ты думал, опять задача, – его зовут – Евгений Онегин.
Из письма П.В. Нащокина А.С. Пушкину в июне 1831 г.
Во второй год эпидемии новой коронавирусной инфекции, когда были несколько ослаблены профилактические ограничения и появилась возможность посещать музеи, мне довелось побывать на экскурсии в филиале Всероссийского музея А.С. Пушкина – даче Китаевой в Царском Селе. Несмотря на 190 лет, разделявших с пушкинским временем, на ум приходили аналогии с той эпохой, когда в России в 1830-1831 гг. бушевала эпидемия холеры.
Ещё осенью 1830 года Пушкин находился в вынужденном затворничестве в Болдино вследствие холерных карантинов. А уже в следующем году после свадьбы в Москве снял на лето дачу в пригороде Петербурга. Но отголоски эпидемии донеслись и сюда: петербургская знать переехала в Царское Село, а холерные карантины устроили по дороге в столицу. «Здесь холера, т.е. в П<етер>Б<урге>, а Сарское Село оцеплено…», – в июне 1831 года пишет Пушкин другу П.В. Нащокину в Москву. Так что лето, проведенное здесь, стало своеобразным продолжением ограничений в условиях эпидемии холеры, с той только разницей, что для Пушкина это уже была не холостая, а семейная жизнь, и его круг общения в Царском Селе, в отличие от Болдино, был значительно шире и включал друзей-литераторов В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. Выбор места жизни с молодой супругой вне столицы поэт, очевидно, сделал осознанно, поскольку оно было связано с воспоминаниями юных лет: дача Китаевой располагалась всего лишь в десяти минутах ходьбы от Царскосельского Лицея. Строки «Евгения Онегина» увековечили его память о лицейском прошлом:
В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
«Евгений Онегин» к моменту приезда Пушкина на дачу Китаевой был почти готов. Болдинской осенью 1830 года были написаны последние главы романа и составлен его окончательный план. Но именно летом 1831-го Пушкин завершил работу, добавив письмо Онегина к Татьяне. Остается только догадываться, почему он не сразу сочинил письмо Онегина, а только спустя год после создания основного текста, – и почему сделал это в Царском Селе.
Рассуждая о творческом замысле «Евгения Онегина», отметим, что «школьный» взгляд на это произведение как на любовный роман, в который автор добавил описания природы, остроумные высказывания и характеристики жизни и быта широких слоев русского общества того времени («энциклопедия русской жизни», по выражению критика В.Г. Белинского), явно ограничен. «Евгений Онегин» – произведение достаточно сложное, многослойное, но в то же время гармоничное. Здесь используются и обыгрываются разные литературные и языковые стили. Пушкин не только как гениальный художник, но и как человек с прекрасным образованием и большим культурным багажом сумел вместить в относительно небольшое произведение множество культурно-исторических деталей, что потребовало в последующем создания исследователями романа отдельных литературных комментариев, самые известные из которых подготовили Н.Л. Бродский, Ю.М. Лотман и В.В. Набоков. При этом, как подчеркивал Ю.М. Лотман, «исчерпать онегинский текст невозможно. Сколь подробно ни останавливались бы мы на политических намеках, многозначительных умолчаниях, бытовых реалиях или литературных ассоциациях, комментирование которых проясняет различные стороны смысла пушкинских строк, всегда остается место для новых вопросов и для поиска ответов на них».[1]
Как пишет филолог Игорь Пильщиков о «Евгении Онегине», это «радикально новаторское произведение в отношении не только композиции, но и стиля»[2]. Пушкиным впервые использована такая характеристика литературного сочинения как «роман в стихах», причем специально для него разработана новая поэтическая структура стиха – «онегинская строфа». Впервые в отечественной литературе вступление расположено не в начале романа, а ближе к концу, точнее в седьмой главе, а концом произведения является не финал сюжета, а фрагменты его середины, то есть отрывки из «Путешествия Онегина» и начала создания романа («Итак, я жил тогда в Одессе…»).
Необычным было и развитие сюжета, включая открытый финал, с легкой руки Пушкина, вошедший в качестве литературного приема в произведения отечественных авторов.
И наконец, «Евгений Онегин» – это первый за пределами Западной Европы метароман или «роман о романе».[3] Автор, фигурирующий под личным местоимением «я», выполняет не только функцию героя, но и описывает фрагменты своей биографии («там некогда гулял и я, но вреден север для меня», «там, там под сению кулис младые дни мои неслись», «во дни веселий и желаний я был от балов без ума», «я знал красавиц недоступных, холодных, чистых, как зима», «я жил тогда в Одессе пыльной» и т.п.). Высказывает своё мнение по широкому кругу вопросов (например, «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», «замечу кстати: все поэты – любви мечтательной друзья», «привычка свыше нам дана: замена счастию она», «без грамматической ошибки я русской речи не люблю», «чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей», «прекрасны вы, брега Тавриды», «Москва… как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!»). Участвует в развитии сюжета (встречается с Онегиным, хранит и пересказывает письмо Татьяны), а также по ходу повествования посвящает читателя в то, как пишется этот роман:
Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел всё это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу;
Цензуре долг свой заплачу
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам….
Или временами отвлекается на литературные дискуссии:
Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Всё это низкая природа;
Изящного не много тут.
Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой!
Такой литературный прием как использование авторских отступлений от сюжета, по мнению И. Пильщикова, создает иллюзию движения повествования «при почти неподвижном сюжете»[4].
Интересно, что мнения автора и персонажей романа нередко расходятся, что было также необычным для современников Пушкина. Через призму взглядов не только самого автора, но и главных героев Пушкин мог в разных частях произведения излагать собственные мысли и чувства, вовлекая читателя в своеобразную литературную игру.
Кроме того, он наделяет Онегина некоторыми собственными автобиографическими подробностями, при этом всячески подчеркивая самостоятельность персонажа, тем самым мистифицируя современников.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт…
Многие исследователи творчества Пушкина фактически безрезультатно занимались поисками прототипов главных героев, поскольку их собирательные образы объединяли черты как знакомых поэта, так и его самого.
Впрочем, и сам автор в «Евгении Онегине» может рассматриваться в качестве одного из главных героев. Ничуть не претендуя на строго научный подход, заметим, что если посчитать количество упоминаний в тексте персонажей, то окажется, что личные (я, мне) и притяжательные (мой, мои) местоимения, включенные в авторские отступления и непосредственно касающиеся личности и биографии Пушкина-автора, встречаются почти в два раза чаще, чем имена каждого из двух главных героев романа – Евгения Онегина («Евгений», «Онегин») и Татьяны Лариной («Татьяна», «Таня»).
Пушкин работал над «Евгением Онегиным» восемь с половиной лет – с мая 1823 года по октябрь 1831-го, публикуя роман отдельными главами и частями, и, очевидно, сроднился с ним, сделав его в некотором роде публичным литературным дневником писателя. Недаром в завершении основного текста романа он пишет, обращаясь к Онегину («мой спутник странный»), Татьяне («мой верный идеал») и своему метароману («живой и постоянный, хоть малый труд»):
Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Всё, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.
Возможно, в связи с необходимостью осмыслить для себя окончание работы Пушкин медлил с завершением романа и сочинил письмо Онегина только через год после написания последних глав. А период лета 1831 года, проведенного в Царском Селе, стал наиболее подходящим для этого.
Совершенно естественно, что за годы создания «Евгения Онегина» изменились не только авторская концепция произведения, но и мировоззрение Пушкина.
Ещё в ноябре 1823 года Пушкин сообщал П.А. Вяземскому: «…я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница». А в 1824-м Пушкин писал своему лицейскому другу, будущему декабристу В.К. Кюхельбекеру: «…читая Шекспира и библию, святый дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. <…> Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма…». «Уроки афеизма» – это беседы на атеистические темы с одним одесским знакомым. Кстати, именно эта фраза послужила поводом к ссылке Пушкина в Михайловское.
Спустя 6 лет, в начале 1830 года, Пушкин дает поэтический ответ на послание к нему митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова), в котором говорит о своем духовном преображении.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.
А в декабре 1831-го в записке П.В. Нащокину сообщает: «Сейчас еду Богу молиться и взял с собою последнюю сотню».
Летом 1831 года на фоне холерных бунтов и Польского восстания Пушкин создает стихотворения, коренным образом отличающиеся от вольнолюбивых произведений юности: «Перед гробницею святой…», «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».
Вместе со «своим Онегиным» Пушкин прожил большой отрезок жизни, вместивший потерю некоторых друзей («иных уж нет, а те далече»), эволюцию своих политических и религиозных взглядов:
Какие б чувства ни таились
Тогда во мне – теперь их нет:
Они прошли иль изменились…
Мир вам, тревоги прошлых лет!
И, наконец, Пушкин женился. Как писала Анна Ахматова, «чем кончился “Онегин”? — Тем, что Пушкин женился. Женатый Пушкин ещё мог написать письмо Онегина, но продолжать роман не мог». Игра в Онегина должна была закончиться.
Лето 1831 года на даче Китаевой, несмотря на известия о тревожных событиях холерной эпидемии и вооружённых восстаний, всё же было одним из счастливых периодов в жизни поэта – временем приятных воспоминаний лицейской юности, временем надежд (счастливая семейная жизнь), подведения итогов (завершение «Евгения Онегина») и новых творческих планов (перспектива работы в государственных архивах над историческими трудами).
В XXI веке, принесшем новые вызовы и эпидемии, вспоминаются слова Пушкина, сказанные в те далёкие дни: «…холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы»[5].
[1] Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: комментарий. М.: Проспект, 2023. С. 29.
[2] Пильщиков И. Александр Пушкин. «Евгений Онегин» / Полка: О главных книгах русской литературы. Том I. «Альпина Диджитал», 2022. С. 162.
[3] Там же. С. 161.
[4] Там же. С.161.
[5] Из письма А.С. Пушкина к П.А. Плетневу 22 июля 1831 г.