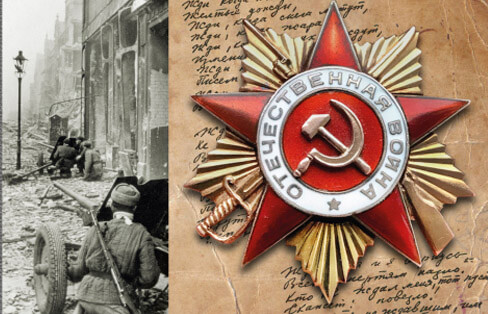
Писательская рота
- 04.04.2025
Война, опалившая это поколение, так и не оставила в покое выживших и вернувшихся домой, мирное время их не исцелило, фантомные боли только усиливались. Погибшие умолкли. Сотни и сотни ненаписанных книг, как не родившихся детей, зарыты в братских и одиночных могилах в полях, в лесах, в оврагах, в городах и в деревнях от Москвы и Сталинграда до Берлина и Праги. Эти книги, которым не суждено было появиться на свет, не обязательно были бы о войне, о фронте, о крови и смерти. Как известно, книги пишутся в основном о любви.
Можно только представить: в каждой братской могиле, как где-нибудь под калужскими Износками или могилевскими Костюковичами, — в каждой! — зарыта ненаписанная книга. Хотя бы одна! Как прочитать ее? И как это много! Как много у нас отнято!
Выжившие, прошедшие ад сражений и госпитальные палаты, отчасти восполнили эти утраты. Виктор Астафьев, Василь Быков, Вячеслав Кондратьев, Евгений Носов, Александр Зиновьев, Борис Горбатов…
Все войны рано или поздно кончаются. Усталый народ сдает старшинам оружие и, изнашивая солдатское, начинает переодеваться в гражданское. Раны тоже заживают, затягиваются. Запахиваются воронки и окопы на полях. Но память остается навсегда. Ее, как винтовку, не сдашь на склад, она не исчезает со споротым погоном, ее не потерять, как старую медаль. Она будет бродить под окнами, стучаться в двери и в душу, оживать горячечной кровью в самом сердце, пока не добьется своего. И измученный годами поэт, оглядываясь на пережитое и написанное, воскликнет вдруг:
«А в общем, ничего, кроме войны!..»
А что ты, Поэт, хотел от жизни, кроме Войны, когда она, Война, тебя избрала?! Ты — Ее избранник и вечный Солдат. Она — твоя Муза и вдохновительница. Она — твоя Родина. Так что остается только одно — беспрекословно, согласно воинской присяге служить Ей. Верой и Правдой. В самом первоначальном значении этих слов.
Служить… Легко сказать. А ведь после войны было время, когда о минувших сражениях и говорить было не принято, не то что писать, а потом еще и пытаться публиковать написанное…
Но память о пережитом, о погибших товарищах оказалась сильнее всяких условностей, политических, идеологических и иных. Выжившие вернулись на поля сражений и вывели оттуда своих героев. Познакомили с ними нас, своих детей и внуков. Со своими комбатами, старшинами и санинструкторами. С теми, с кем лежали рядом на подмосковном снегу в мерзлом окопе в ожидании атаки. И мы восхитились их подвигом. Нас захватила их жажда жизни, сила воли в стремлении изгнать со своей земли врага, сломить его, победить.
Очерки о писателях-фронтовиках из первой книги Сергея Михеенкова «Писательская рота», опубликованные в журнале «Подъём» в 2023–2024 годах, вызвали неподдельный читательский интерес и душевный отклик. Сегодня редакция в преддверии 80-летия Великой Победы начинает публикацию глав из второй книги «Писательской роты».
Глава первая
ФЕДОР АБРАМОВ
«МОЕ МЕСТО НА ФРОНТЕ…»
1
Когда произносят имя Федора Абрамова, сразу вспыхивает цепь ассоциаций: роман-тетралогия «Пряслины», повести «Безотцовщина», «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони», одноименный спектакль в Театре на Таганке в постановке Юрия Любимова, публицистическая статья «Письмо землякам» («Чем живем-кормимся?»). Все вроде бы так, и ряд почти полный, во всяком случае, достаточный.
Однако начинал Абрамов как литературный критик и литературовед, как ученый и даже издал монографию под названием «Жизнь и творчество М.А. Шолохова. Семинарий». А его статья «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», опубликованная в «Новом мире», когда к своей прозе Абрамов еще и не приступал, наделали столько шума, что имя его сразу вошло в литературный обиход самого первого ряда. В прозу же пришел поздно. Хотя первые опыты появились еще в отроческие годы. Строгость к себе, к слову обязывали не торопиться. На хлеб насущный зарабатывал другим — преподавал. И преподавательскую кафедру оставил не сразу. Когда даже пришли немалые деньги за публикации рассказов и повестей в журналах, когда начал получать гонорары за книги, довольно долго и мучительно расставался со своей alma mater — Ленинградским университетом.
2
Родился Федор Александрович Абрамов 29 февраля 1920 года в деревне Веркола Пинежского уезда Архангельской губернии. «Я родился в деревне, — писал он в одной из автобиографий, — в семье русского крестьянина. Родители до революции и после нее занимались сельским хозяйством…» В семье он был пятым ребенком.
В народе говорят: родиться на Касьяна-високоса — 29 февраля — всю жизнь маяться. Должно быть, так оно и вышло. Крестили мальчика уже весной, в марте, батюшка, зная истинную дату его появления на свет, хотел дать новокрещенному имя по святцам — Касьян. Но мать Степанида Павловна упросила священника наречь Федором, чтобы отвести от сына злую долю. Иногда в кругу близких друзей Абрамов, видимо, подчеркивая свою врожденную подверженность некоему року, говорил: «Я Касьян!»
Ему едва исполнилось два года, когда умер отец Александр Степанович.
Только-только закончилась Гражданская война. Разруха. Северные деревни обезлюдели от раздоров и голода. Но Степанида Павловна ночей не спала, трудилась, вытягивала последние жилы, но хозяйства не упустила. И ко времени создания колхозов Абрамовы были вполне зажиточными хозяевами: две коровы, две лошади, стадо овец, не счесть разной домашней птицы… Середняцкое хозяйство разделило судьбу кулаков — раскулачили. Ладно, хоть не выслали в Сибирь.
Веркольскую единую трудовую школу 1-й ступени Абрамов окончил с отличием. А ведь училась веркольская детвора, не имея ни тетрадей, ни вольных чернил. Писали на газетах — между печатных строк.
В школу 2-й ступени Абрамова не взяли, так как он принадлежал к середняцкой семье. Хотя у этого середняка не было ни обуви, ни крепких порток. Семилетка открылась за рекой в одном из зданий бывшего Артемиево-Веркольского монастыря. И чтобы продолжить образование, Абрамов вынужден был поехать в соседнее село Кушкопала, где проживала тетка по материнской линии, Александра Степановна. Она и приютила Федора на время его учебы в Кушкопальской школе 2-й ступени. Пятый класс Абрамов окончил в Кушкопале. Чтобы учиться дальше, надо было перебираться в райцентр, в Карпогоры. Здесь он окончил десятилетку. Непросто крестьянским детям давалось образование. Даже изначальное, школьное.
В это время начал писать стихи. Читал их со сцены. И когда почувствовал, что немного окреп, публиковал в районной газете. Написал даже поэму — «Испанка». Но рукопись ее впоследствии сжег — чтобы и следа не осталось. О ее существовании никогда потом не упоминал. В год столетия со дня гибели А.С. Пушкина был удостоен Пушкинской стипендии. Это был 1937 год…
Карпогорскую среднюю школу Абрамов окончил с отличием. Ему вручили «Похвальную грамоту № 1» и аттестат зрелости с «правом поступления в высшую школу без вступительных экзаменов».
Он подал документы в приемную комиссию Ленинградского университета на филологический факультет. В конце лета 1938 года Федор и еще двое выпускников Карпогорской средней школы, как пишет биограф писателя Олег Трушин, «на лодке по родной Пинеге отправились на учебу», в большой город.
Аудитории филфака располагались в бывшем дворце императора Петра II на Университетской набережной. Абрамова зачислили в восьмую, как ее тогда называли, «русскую группу» отделения русского языка и литературы. «Я чувствовал себя неполноценным, второсортным, — вспоминал впоследствии Федор Абрамов. — Я, еще недавно первый ученик, тут был сереньким неинтересным воробышком… Один крестьянин на весь курс…»
«Необычной была его пинежская «говтря» с необычным оканьем нараспев, — пишет Олег Трушин, — которая на всю жизнь врезалась в его речь и зачастую была предметом шуток и подковырок».
Он брал усидчивостью и серьезным отношением к учебе, жаждой знаний, которая с годами только сильнее разгоралась в нем. Жил в общежитии, на полуголодном пайке, одежонка была плохонькая. Особенно страдал зимой — от холода.
Летом 1939 года он вчерне набросал рассказ «Самая счастливая». Допишет его в 1980 году, спустя сорок один год.
Тогда же, погружаясь в цветущий своею сложностью мир языка и литературы, он переживет радость восхищения, читая прозу Михаила Шолохова, его «Тихий Дон» и «Донские рассказы». Он будет буквально ликовать, купаясь в мелодии шолоховского языка, в его неповторимых интонациях. И образы казаков и казачек встанут перед ним и не опадут уже никогда.
3
Летом 1941 года Федор Абрамов писал Нине Левкович, девушке, которую полюбил в самый канун войны: «Дорогая Нина! Это, вероятно, мое последнее письмо. На днях начнем решающую операцию. Я нахожусь на самом серьезном участке фронта. Живется очень скверно: не говоря уже о самом положении, у меня нет ни одного товарища, с кем бы можно было отвести хоть душу. Однако я по-прежнему придерживаюсь старых взглядов — мое место на фронте!
Мне хотелось бы о многом поговорить с тобой, но все, все решительно перепуталось. Война гудит, будто гром по мне. Но помни, будете праздновать победу, вспомните тогда нас. Мы были уж не так плохи. Передай мой привет Мике Кагану. О Володьке ничего не знаю. Жив ли он? Скверно. Напиши пару слов моим родным.
Прощай, голубоглазая! Федя».
Открытку своей любимой он отправил 28 ноября 1941 года. В этот день он получил второе тяжелое ранение.
Нина Левкович вскоре будет эвакуирована из Ленинграда вместе с матерью. Федора Абрамова с передовой утащат в лазарет, потом отправят в тыловой госпиталь. Позже, оправившись от ранения, он будет искать ее. Но в той квартире, в которой когда-то навещал Нину и был с нею счастлив, будут жить другие люди…
Второе тяжелое ранение и ограниченная годность для продолжения военной службы закрыли Абрамову дорогу на фронт.
Война для него началась на Карельском перешейке летом 1941 года — там он вместе с сокурсниками копал противотанковый ров. «Я спокойно взялся за лопату… и таскать носилки и тачку с песком — привычное для меня дело. Разве косьбу ручную с этим сравнишь или лесоповал — летом, в жару, на оводах?»
Вернувшись с Карельского перешейка, в первый же день он и еще несколько однокурсников пришли в военкомат. Это произошло 3 июля. По радио выступал Сталин: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры!..»
Эти слова, это сочетание, казалось бы, несочетаемого, глубоко залегли в сознание миллионов советских людей, оказавшихся перед лицом смертельной опасности. Не случайным стало название первого романа трилогии, к которому он приступит еще нескоро. Еще предстояло выжить, пережить многое, и только потом — «братья и сестры»…
Речь вождя тут же эхом отозвалась в народе — способные держать в руках оружие стали записываться добровольцами в ополчение. Рабочие, служащие, студенты, преподаватели, вчерашние школьники, ветераны Гражданской и Первой мировой войн…
Версталось ополчение в стенах Ленинградского университета.
Из дневниковых записей Федора Абрамова: «Мы не ждали повесток из военкомата… мы подготовлены были духовно к войне… Никаких дум о смерти, о трагедии, которые несет с собой война. Полная уверенность в скорой победе, боязнь опоздать на фронт… Мы ликовали. Мы долго ждали войны, возможность совершить подвиг, и вот мы дождались. Мы шли на фронт — необученные, ничего не умевшие, почти безоружные и без всякого уныния… Почти все мои товарищи, студенты Ленинградского университета, с которыми я уходил на войну как доброволец народного ополчения, полегли в кровопролитных боях за Ленинград летом и осенью 1941 года…»
Из «Личного дела сотрудника «СМЕРШ» Ф.А. Абрамова № 1390 (11126)» явствует, что в Ленинградскую армию народного ополчения (ЛАНО) он зачислен 14 июня 1941 года. «23 июля мы уже колоннами шагали на фронт, — вспоминал Федор Абрамов. — Необученные, необстрелянные, в новых не пригнанных гимнастерках, в страшных солдатских башмаках. Помню, была ужасная жара… Но все время над колонной звучала песня «Вставай, страна огромная…»
Двести семьдесят седьмой пулеметно-артиллерийский батальон ЛАНО прибыл к Красному Селу и занял оборону. Боевая задача: охрана минных заграждений — в случае отхода частей первого эшелона на новый рубеж обороны предупреждать отступающих о минных полях, чтобы не допустить подрыва своих на своих же минах. Из неоконченной книги «Белая лошадь»: «Передовая была где-то впереди, за речкой, и оттуда, естественно, шли отступавшие — группами, одиночками, и наша задача была предупредить своих… У нас не было карты минного поля… Холодные сентябрьские ночи давали о себе знать, и особенно под утро мы буквально околевали, а костры было жечь нельзя… Мы уже три дня не имели связи со своей ротой, оставшейся где-то за картофельником на опушке леса, и там уже третий день горела неубранная рожь… Кругом были пожары. Рвались снаряды, шел бой. И мы сидели у этого минного поля и ждали команды, когда нас снимут…»
Батальон не выдержал первого же боя. Роты пытались удержать занятые и порученные им рубежи. Но из этой попытки удержаться вышло только то, что батальон был почти целиком уничтожен наступающими немцами. Уцелевшие, измотанные почти непрерывным боем, голодные, но почти все с винтовками — до начала боя была одна винтовка на троих — они начали выходить на тыловые позиции. Но часть их окопов оказалась уже занята немцами. Стало очевидным, что они попали в окружение и что, промедли еще немного, их окончательно отсекут. Из рассказа «В сентябре 1941 года»: «… кругом заволокло дымом. Сзади нас горели деревни и леса. Посмотришь туда — стая рыжих зверей рыщет и несется на нас. Солнце от дыма и пыли, казалось, истекало кровью…»
Его боевой товарищ и однокурсник по ЛГУ Моисей Каган вспоминал: «… нам, остаткам взвода, выбиравшегося по лесу из окружения, нужно было выяснить, в каком направлении двигаться дальше, чтобы соединиться с какой-нибудь боеспособной воинской частью. Как командир отделения — а командира взвода с нами не было, — я взял ответственность на себя и сказал: «Надо идти в разведку. Кто со мной?» Первым отозвался Федор…»
Они шли, изможденные усталостью, недоеданием и холодом, и еще не знали, что Красное Село, где занимал оборону их 277-й батальон, еще 12 сентября занят передовыми немецкими войсками, что судьбу Красного Села разделила и Стрельна и что бои идут уже в окрестностях Петергофа.
Группа Моисея Кагана все же вышла к своим. Произошло это в районе Нового Петергофа. Там уже переукомплектовывались новые подразделения, в основном из вышедших из окружения и разбитых частей и добровольцев из числа студентов все того же ЛГУ. По сути дела, вновь сформированный 277-й пулеметно-артиллерийский «студенческий» батальон тут же направили на передовую, и он вступил в бой на Пулковских высотах близ Старого Петергофа. Из рассказа «В сентябре 1941 года»: «… Зеленые цепи немцев, как лава, беспрерывно набегали на нас. Четырнадцать атак в день!..» Это рассказ, который Федор Абрамов начал писать в госпитале после второго ранения, он закончит лишь спустя сорок лет, и то начерно. А напечатанным увидит только на машинке. Племянник Владимир Михайлович вспоминал рассказ дяди Федора о тех боях: «Бои будь здоров были. Телами убитых прикрывались. Взвалишь на спину погибшего товарища и ползешь, чувствуя спиной, как, словно мыло, дырявят бездыханное тело фашистские пули. А ты ползешь, придавленный к земле трупом, что спасает тебя от смерти, а в руке твоей лишь граната. И мертвые с нами, живыми, воевали!»
В ночь на 23 сентября в результате тяжелейшего боя немцы прорвали нашу оборону. Петергоф был оставлен. Началось решающее сражение за Пулковские высоты. Высоты были ключом к Ленинграду. Красноармеец Федор Абрамов в эти дни «работал на пулемете».
Пулемет всегда основная проблема для наступающего противника, и поэтому ее тут же, немедля, пытаются устранить. Все огневые средства направлены против него — и артиллерия, и минометы. Пулеметный расчет — первая цель и для снайперов.
«Я не помню, что было дальше. Левая рука вышла из повиновения и волоклась, как плеть. <…> … слабость, сонливая, без боли, разлилась по всему телу. Медленно, как щенок, я полз по брустверу окопа к ближнему пулемету. Должно быть, это была интересная картинка: с одной рукой, голый по пояс, полубезумный человек ползет на пулемет.
Я уже был в метрах десяти, уже различал лица пулеметчиков, как что-то тяжелое хлопнуло по голове. Я потерял сознание. А очнулся в госпитале». (Из все того же рассказа «В сентябре 1941 года»).
В одном из боев под Старым Петергофом погиб университетский и боевой товарищ Федора Абрамова Семен Рогинский. В набросках к рассказу есть такие записи: «Я много бы еще мог рассказать о Р. Мы с ним воевали. Как под Н. Петергофом, как «дрались» на окраине Ст. Петергофа и как он спас меня, жертвуя собой…»
Сквозное пулевое ранение. Пробито левое предплечье. Задета лучевая кость. С поля боя вытаскивали товарищи. Ижорский военно-морской госпиталь. «Сортировка». Здесь раненые долго не задерживались. Затем госпиталь на 19-й линии Васильевского острова. Операция и полтора месяца в палате выздоравливающих.
4
О своем ранении он не написал даже матери в Верколу. Не знал, где, в каких частях находятся его старшие братья. Знал только, что все ушли на фронт и где-то воюют.
После короткого отдыха в 28-м батальоне выздоравливающих снова направлен в окопы, теперь уже в составе 1-го ударного батальона 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии 55-й армии. Дивизия дралась на Пулковских высотах. Батальон форсированным маршем двигался к фронту, почти бежал. Наши войска готовили контрудар. Прорыв дивизии должен был обеспечить ударный батальон.
Здесь Федор Абрамов получил очередное тяжелое ранение. В первом же бою. «Разрывная пуля прошла навылет в верхней части бедер обеих ног, повредив кости и нервы». Ранение оставило легкое прихрамывание, которое Абрамов потом маскировал «походкой вразвалочку».
Он упал возле немецкой колючки в грязный снег, смешанный с мерзлыми кусками земли, вырванной минами. Санитары сочли его мертвым и после боя поволокли к общей яме, где коченели скрюченные трупы убитых. «Мертвый» вдруг глубоко вздохнул…
Снова его волокли санитары в тыл после торопливой перевязки. Снова «сортировочный» госпиталь и тот же, тыловой, полуголодный, на 19-й линии Васильевского острова. В госпитале счастливая встреча с Валентиной Гаповой, учившейся на том же филологическом факультете университета на курс младше его. Валентина окончила курсы медсестер и ухаживала за ранеными. Гапова оставила воспоминания о Федоре Абрамове.
Однажды партию раненых подготовили к отправке на Большую землю. Они были крайне истощены и нуждались в хорошем питании и уходе. В нее попал и Абрамов. Валентина Гапова вспоминала: «… в холодном пустом вестибюле он стоит на костылях, в шинели, опираясь на одну ногу, левая полусогнута, висит закутанная, лицо почти угрюмое от напряжения… Повиснув на костылях, развел в обе стороны свои небольшие ладони: «У меня голые руки, Валя, я еду без варежек». Несу шерстяные малинового цвета варежки… Надел… На левой варежке во всю ладонь дыра! В уголках его сжатых губ — горечь и скорбь… Откуда только у него брались силы стоять на одной ноге с тяжелой, незажившей раной под северным сквозняком?..»
В феврале 1942 года его вывезли по льду Ладожского озера на Большую землю. Долечивали на Вологодчине. Весной, когда уже зазеленели леса, выписали с отсрочкой призыва. «И этот короткий отпуск по ранению, — пишет Олег Трушин, — всего-то чуть больше трех месяцев, проведенных в Карпогорах и родной Верколе, не окажется для него праздником: то, что он увидел там, ляжет тяжелым грузом на его душу и сердце и останется с ним на всю жизнь. Абрамов словно «вывернет» войну наизнанку, увидев ее «закулисье», тот «деревенский бабский фронт», где неимоверным трудом и горькими слезами от летящих похоронок ковалась будущая Победа». Из этого и складывались потом его романы «Братья и сестры», «Две зимы и три лета» и многие рассказы.
Из рассказа «Наводнение»: «Гремя костылями, поднимаюсь по лестнице, отворяю дверь. Где мама, где Уля? В комнате тихо. Прохожу в чулан. Там в маленькой комнатушке на деревянной кроватке, на которой я спал, еще участь в средней школе, лежит седая, высохшая старушка. Один глаз у нее закрыт, поверх одеяла сухая, жилистая рука. Она судорожно сжимается. Знакомая рука. Мама…
— Мама! — падаю я со слезами на колени. — Что с тобой?
Ведь полтора года назад, когда я приезжал на каникулы, это была здоровая, полная, румяная старуха без единого седого волоса.
— Мама, да говори же! — прошу я.
Из ее рта вырвались какие-то нечленораздельные звуки, а из открытого глаза по лицу поползла слеза».
Мать Степанида Павловна болела. Ее перевезли из Верколы в Карпогоры. Там за нею ухаживала невестка, жена старшего сына Василия. Василий в то время находился на фронте. Демобилизуют его лишь в конце августа 1943 года после тяжелого ранения. Воевал он под Орлом и попал в самое пекло летних боев сорок третьего года на Орловско-Курской дуге.
Однажды получил от Василия письмо. Тот отвечал на его желание поскорее поправиться и снова вернуться на передовую: «Федюша, напрасно только спешишь туда. Ведь ты уже там был, два раза целовался, и основательно. Запомни, друг, третий поцелуй может быть роковым, что для меня будет ударом, который навряд ли я переживу… 4.01.1943 года».
Он по-прежнему пытался вырваться на фронт. Прошел комиссию. Получил направление в пулеметное училище в городок Цигломень, что под Архангельском. Но лычки старшего сержанта не помогли ему попасть на фронт. В училище на него поступил запрос из особого отдела НКВД. Характеристика ушла положительная.
5
О своей службе в «Смерше» Федор Абрамов всегда помалкивал. Что-то как будто его смущало.
Седьмого апреля 1943 года в отделе кадров при поступлении на новое место службы он заполнил «Анкету специального назначения работника НКВД»: «Из крестьян, три курса Ленинградского государственного университета — незаконченное высшее, не судим, доброволец Красной армии, дважды ранен, взысканий по службе не имел, член ВЛКСМ, член Союза работников Высшей школы, читаю, пишу и говорю недостаточно свободно по-немецки, пишу и читаю по-польски, три брата на фронте…»
Двадцатого апреля 1943 года специальным приказом по Архангельскому военному округу старший сержант Федор Александрович Абрамов был зачислен в резерв ОКР «Смерш» на должность помощника оперуполномоченного. Просматривал картотеки, «переписывал чужие неграмотные протоколы», «ловил дезертиров» («по помойкам, по дворам»), конвоировал доставляемых в особый отдел… Работа в контрразведке, мягко говоря, не вдохновляла его. К тому же удручала сложность взаимоотношений с некоторыми сотрудниками.
После прохождения испытательного срока началась следственная работа. Летом 1943 года присвоено звание младшего лейтенанта. В следующем году получил лейтенанта и должность старшего следователя. Вспоминал, что ему постоянно подбрасывали те дела, которые шли на особое совещание. Подбрасывали в основном для того, чтобы исправлял орфографические ошибки за следователями. «Меня страшно огорчало: я доводитель… Случалось, что я целые дела заново переписывал. И тут доводить дали. Боже, что это были за протоколы. Потому-то и кабинет у меня такой был — в подвале. Надо мной посмеивались. Офицеры не очень-то придавали значение грамоте».
Но были и настоящие дела. Расследования. Хождения в глубину, до самой сути. Именно таким оказалось поручение начальника ОКР «Смерш» Архангельского военного округа генерал-лейтенанта Ильи Ивановича Головлева разобраться в деле разгрома партизанского отряда на Брянщине. Офицеры прочитали материалы дела и усомнились в виновности группы партизан и местных жителей в том, что именно они навели карателей на партизанскую базу. «Дело о гибели брянского партизанского отряда» легло на стол генерала Головлева. Он вызвал к себе лейтенанта Абрамова и сказал: «В этом деле лежит твой орден. А может, и не один твой…»
Лейтенант Абрамов погрузился в материал, изучил все контрдоводы и пришел к выводу о том, что обвиняемые в предательстве и пособничестве врагу не виновны. А ведь им грозила высшая мера…
Допросы немецких диверсантов, захваченных в нашем тылу, радистов и разведчиков, работавших на абвер, сотрудников немецких спецслужб и спецподразделений, распутывание сложнейших историй, участниками которых были коллаборанты из числа сознательно перешедших на сторону врага и вынужденных выполнять работу по заданию немецких властей на временно оккупированной территории. Разные судьбы, разная степень проступков и преступлений. За каждым документом — человеческая жизнь. Следователю необходимо было действовать осторожно, вдумчиво.
В октябре 1943 года при форсировании Днепра погиб средний брат Абрамова, Николай Александрович. Посмертно он был представлен к ордену Отечественной войны I степени. Федор Абрамов записал в дневнике: «Погиб наш брат Николай. Он пал в боях по Днепру. Тело его похоронено на острове Хортица. Тяжело я встретил эту весть. До сих пор не могу свыкнуться с мыслью о его безвозвратной потере. Два года смерть щадила наш дом. На третий ворвалась, и бог знает, еще какие опустошения произведет она в нашем роду…»
В те же дни он записал: «писательством отстрадал. Бред проходит. Все, что написано, — ужасно безжизненно». Но по-прежнему делает записи, аккуратно ведет дневник.
Десятого мая 1945 года в дневнике появляется такая запись: «Все утро 9-го по городу раздавались выстрелы. Это опьяненные радостью офицеры приветствовали день победы… Выйдя на улицу, мы увидели, что город разукрашен флагами. Кругом снова празднично одетые люди… Днем по всей стране, в том числе и в Петрозаводске, состоялись митинги на площадях…»
В октябре 1945 года из эвакуации в Ташкент вернулся филфак Ленинградского государственного университета. Федор Абрамов тут же подает рапорт начальству: «В условиях победоносного завершения Отечественной войны считаю для себя вполне возможным продолжить прерванную войной учебу, тем более что для окончания университета мне остался один год.
В связи с этим убедительно прошу Вашего указания об увольнения меня из органов «Смерш» и предоставлении возможности закончить образование.
До начала занятий в вузах осталось менее месяца. Это обстоятельство заставляет меня просить Вас ускорить разрешение по моему делу».
Из органов его уволили не сразу, были сложности, начальство не хотело отпускать перспективного сотрудника, направляли даже в Академию МВД в Москву. Он снова написал рапорт. Обратился в ректорат ЛГУ. Оттуда за подписью ректора Ленинградского университета профессора А.А. Вознесенского на имя генерала Головлева поступило «рекомендательное прошение» о необходимости возвращения недоучившегося студента Ф.А. Абрамова в стены родного университета. И только в конце октября 1945 года начальник Главного управления контрразведки «Смерш» НКО генерал-полковник В.С. Абакумов подписал приказ № 408/сш об увольнении лейтенант Абрамова из органов.
Началась другая жизнь.
6
Война наложила свой суровый и трагический отпечаток на людей и на всю страну, победившую, выдюжившую в смертельной схватке ценою неимоверных усилий и жертв. Но она, какой бы чудовищной и жестокой ни была, а все же не исказила лица народа и страны, не убавила человеческих черт.
Война и служба в «Смерше» изменили характер Федора Абрамова. Олег Трушин точно замечает: военные годы «сильно изменили его характер, восприятие действительности, отношение к людям». До войны Федора Абрамова знали человеком спокойным, уравновешенным. «… эти черты в нем сломались, — пишет Трушин, — но укрепилась человечность, доброта, отзывчивость, желание помочь. <…> он стал более нетерпимым к злу, бесполезному времяпрепровождению <…> Абрамовская вспыльчивость, взрывной экспрессионизм, порой чрезмерная эмоциональность, некоторая осторожность в общении с людьми, отчасти недоверие, безусловно, родом с войны».
Федор Абрамов восстановился в университете. Учился с прежней прилежностью и рвением. Стал Сталинским стипендиатом. На четвертом курсе на научной конференции сделал доклад «Советская русская проза за 1946 год», который «вызвал изумление не только студенческой аудитории, но и восторженное одобрение преподавательского состава, и даже был отмечен в отделе критики ленинградской «Звезды» как весьма содержательный». В докладе были довольно взыскательно рассмотрены произведения о войне: «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, «Дни и ночи» Константина Симонова, «Люди с чистой совестью» Петра Вершигоры, «Марья» Григория Медынского, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.
Дипломной работой стала «Поднятая целина» Михаила Шолохова». Выбор не случаен. Тема человека на земле, который кормит себя и свою семью трудом от этой земли. И землю эту, и дом, и семью надо еще и защитить…
В 1948 году после окончания университета и получения диплома филолога-русиста Федор Абрамов поступает в аспирантуру. Позднее на одной из встреч с читателями признавался: «Путь мой в писательстве был нелегким, надо было кормить семьи братьев: один брат погиб, другой брат — колхозник, надо учить его детей. И еще платить налоги старшего брата — брата, который был мне отцом. Да-да, после войны в деревне было очень тяжело! Вы знаете постановление ЦК о нарушении материальной заинтересованности. А практически что это означало? В течение многих лет колхозникам не платили или платили считанные гроши. Короче, бремя старшего брата легло на мои плечи… пришлось искать пути реального добывания денег. Я пошел в аспирантуру. Был спокойный расчет: бог знает, будет ли из меня писатель, ведь я уже не мальчик, мне двадцать восемь, когда окончил университет, а тут — быстрая отдача. Так я стал аспирантом: в 1951 году защитил диссертацию, и много лет все мои основные деньги уходили в деревню — на старшего брата… чтобы учить его детей, чтобы учить сестру и тащить семью погибшего брата…»
Было время, братья помогали ему. А теперь пришло время помочь им и их семьям.
Но литературное творчество звало. В 1948 году написал рассказ «Николай Николаевич».
В том же сорок восьмом произошла встреча с Людмилой Крутиковой. Спустя год они начнут жить вместе. Людмила — тоже выпускница филфака ЛГУ. К тому времени она преподавала на кафедре русского языка и литературы университета. В прошлом была война, жизнь в оккупации, неудачное замужество, смерть сына…
Какое-то время они жили на два дома: он в Ленинграде, она — в Минске.
Временное одиночество дарило Федору Абрамову свободу, и он начинает работу над первой книгой трилогии о Пряслиных — романом «Братья и сестры». Скорее всего, о трилогии он тогда еще и не думал. По-прежнему преподавательская и научная работа забирают основные силы и время. Но роман уже начинал кристаллизовываться, обретать некие черты, оправдывая авторские надежды первоначального замысла.
В это время по приглашению друга Федора Мельникова на лето он поселяется на хуторе Дорищи Новгородской области и целиком погружается в роман. Герои уже ожили в нем, в главах, на страницах рукописи, которая полнилась с каждым днем. «За рабочий стол Федор садился очень рано, с рассветом, и работал до самого вечера с перерывами на завтрак и обед, — вспоминал Мельников в очерке «Откуда пошли «Братья и сестры». — Питались мы вместе, за одним столом. Готовила для нас добрая и хлебосольная хозяйка дома Ольга Семеновна… <…> свое парное молоко, своя картошка, домашние вкусные хлебы… После завтрака с топленым молоком из русской печи, с вареными яйцами из самовара Федя шел за свой «станок», как он называл рабочий стол, а я принимался за свое обычное дело. После обеда он читал то, что им было написано за рабочий день. Читал он только мне и просил об этом никому не говорить. Читал он четко, с расстановкой, проверяя активность своего слушателя и зрителя…
Мы были оба увлечены этим удивительным процессом рождения живых литературных героев. В нашей беседе, размышлениях, продолжая развивать характеры людей, их отношения, связи сюжетные линии, Федор своим темпераментом и напором буквально втягивал меня в самую гущу творческого «варева» и не отпускал до тех пор, пока сам себя не исчерпает до дна.
И, наверное, было бы совсем однобоко и упрощенно видеть в тамошних чтениях и беседах одну только радость, сплошное удовлетворение. Нет! Было очень много и огорчений. Часто возникали споры. Особенно было трудно, когда у Федора наступали кризисные часы — время сомнений, а то и полного неверия в свои способности. Такие трудные периоды назывались нами в шутку «падучей». Нелегко расставалась с ним «падучая». <…> Когда работа у него застопоривалась, он решительно ее оставлял и уходил из дома. В дальние прогулки, которые он так любил…»
Темой кандидатской диссертации, которую он успешно защитил в 1951 году, стало творчество Михаила Шолохова. Шолохов его так и не отпустит до конца жизни.
Постепенно решился жилищный вопрос. Вначале скитались по общежитиям и разным углам. Потом получили комнату в коммуналке. Потом еще одну, смежную. Людмила Крутикова вспоминала: «Там даже был большой изразцовый камин, и Федор с удовольствием заготавливал дрова и зимой топил камин (парового отопления тогда не было). Так мы прожили почти восемь лет до тех пор, пока не приобрели за свой счет двухкомнатную квартиру в экспериментальном доме со встроенной мебелью на Малой Охте».
7
В большую литературу Федор Абрамов вошел не романами и повестями, вообще не прозой, а пространной и основательной критической статьей «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе». Статья была опубликована в журнале «Новый мир» в одном из номеров 1954 года. Это был жесткий разбор прозы Елизара Мальцева, Григория Медынского, Семена Бабаевского и других писателей, «чьи произведения создавали образ «счастливого» крестьянина-колхозника…»
Статья вызвала бурную реакцию в прессе и в партийных кругах. Чтобы погасить волну негодования в свой адрес, Федор Абрамов обратился с письмом к Хрущеву. Тот даже не ответил.
Тогда же состоялось знакомство с Твардовским. 4 июня 1954 года Федор Абрамов записал в дневнике: «В «Новом мире» познакомился с Твардовским.
Твардовский оказался умным, самобытным человеком с живым умом. Это личность! Самая яркая личность в писательском мире. Он самородок — и это чувствуется в его языке — ярком, народном, с необычайными сравнениями и образами.
Говорили мы, естественно, о «Новом мире», о моей статье…
— Кстати, Вы знаете, какая история была с очерком Овечкина? Он со своим очерком везде толкался, в том числе и в «Правду», — и всюду отказывались, как от чумы. И вот уже перед тем, как взять веревку и идти в сарай, он без всякой надежды на успех, что называется, для очистки совести, постучался к нам.
Потом он в шутку заметил, способен ли я защитить свою статью, не сдамся ли на милость проработчикам.
— Нет, — ответил я. — На чем стою, на том и стоять буду.
Это, видимо, понравилось Твардовскому…
На факультете удивляются. Хотели увидеть меня удрученным, с опущенной головой. А я держусь так, как будто все в порядке».
Но Абрамов все же сдался. 27 июня 1954 года он запишет в своем дневнике: «Я принял решение признать ошибочность моей статьи…»
Состоялось собрание на кафедре советской литературы ЛГУ. Из протокола собрания: «Ф.А. Абрамов, выступивший на партийном собрании и на философском семинаре, признал свои ошибки. Он сказал, что партийная печать правильно и вполне своевременно подвергла критике его статью, в которой он свел свою оценку послевоенной литературы о деревне к одним недостаткам, забыв о ее положительном влиянии в послевоенном развитии и восстановлении сельского хозяйства, в коммунистическом воспитании…»
Заплатив покаянием, Абрамов соскочил с плахи. Под удар попала редакция «Нового мира». Твардовского убрали с поста главного редактора. Остальные каялись и посыпали голову пеплом. В «Новый мир» снова пришел Константин Симонов. В литературных кругах поговаривали, что этот молодой критик из Ленинграда все же во многом прав, ему сочувствовали, его жалели, но осторожно, издали: ничего, мол, если выживет, крепче будет…
Отметил внимательный и честный взгляд ленинградца и Симонов. Ждал от него новой рукописи.
8
Как только пошла проза, все чаще стал бывать на Пинежье. Помогал по хозяйству брату Михаилу. Работал над начатой рукописью «Братьев и сестер». Хотя рабочее название романа первоначально было другим.
В августе 1955 года Федор Абрамов писал Федору Мельникову из Верколы: «Сегодня я закончил последнюю главу романа… И впереди работы непочатый край. Многие главы надо дописывать, некоторые радикально перерабатывать, есть и такие (в середине), которые надо заново писать, все-таки полотно выткано. Думаю, что через полгода я сумею закончить его окончательно».
Весной 1956 года Абрамова утвердили в должности заведующего кафедрой советской литературы ЛГУ. Должность и научная, и партийная одновременно. Федор Абрамов был человеком глубоко партийным. Про таких говорили: коммунист до мозга костей, с обостренным чувством справедливости. Да еще с прошлым сотрудника «Смерша», с глубоко усвоенным опытом дисциплины и самодисциплины.
Рукопись романа «Мои земляки» (так первая книга «Пряслиных» изначально называлась) Федор Абрамов разослал веером по «толстым» ленинградским и московским литературным журналам. Как и следовало ожидать, начали приходить отказы. Он, конечно же, понимал: статью в «Новом мире» ему не забыли и будут помнить долго. Но, к счастью, память у всех разная. И вот, наконец, пришло известие, что журнал «Нева» готов опубликовать роман, но с условием, что автор внесет в текст некоторые поправки и изменения. Говорят, что, рассылая рукопись по журнальным адресам, Абрамов схитрил: в какой-то момент понял, что рукопись просто не читают, а видя его подпись, тут же отсылают назад, придумывая расхожие отговорки, мол, редакционный портфель переполнен, да не подходит по теме… И тогда на титульном листе он подписал: «Федор Верколо». Рукопись в «Неве» прочитали коллективно, восхитились всей редакцией и дружно решили давать. Когда узнали настоящее имя автора, заднюю включать было уже неловко. Ограничились правкой и сокращениями. Таким образом роман вышел в журнале «Нева» и сразу поставил Абрамова в первый ряд советских писателей.
Журнальная редакция «Братьев и сестер» вышла в сентябрьском номере «Невы» за 1959 год. Читательская реакция была восторженной. Критика же вновь подняла бурю, на этот раз обвиняя автора в «отсутствии оригинальности», т.е. в плагиате. В героях романа некоторым недоброжелателям увиделись шолоховская Лушка, и дед Щукарь, и Давыдов…
Однако в периодике появились и положительные рецензии.
Федора Абрамова с Шолоховым действительно роднило многое. И в первую очередь строгое и бережное отношение к слову. Их роднили Дон и Пинега, протекавшие через их сердца.
«Федору Абрамову удалось почти невозможное, — пишет биограф и литературовед Олег Трушин. — Наверное, ни одно из произведений, вышедших из-под пера до, да и после «Братьев и сестер» (если только «Василий Теркин» Твардовского да стихотворение Симонова «Жди меня»), не содержало в себе столько тождественности между образами героев и читателями. Абрамов действительно угодил в точку. Он не просто всколыхнул читательское сознание тем, что хотел донести, что у самого лежало на душе, но и заставил говорить о том времени, о котором смолчать не мог, о тех, чьим трудом в войну добывался нелегкий победный хлеб! И еще, может быть, самое ценное то, что Абрамов сподвигнул говорить об этом устами простых людей, тех, кто непосредственно вынес на своих плечах бремя военных и послевоенных тягот, работая в колхозе один за семерых».
Впоследствии трилогию «Пряслины» читатели назвали «Тихим Доном» Русского Севера. Вот что, по самому большому счету, роднит Абрамова с Шолоховым.
Почти одновременно с журнальной публикацией роман «Братья и сестры» вышел отдельной книгой. Читатель и писательский мир встрепенулся: появился новый сильный прозаик. Позже, когда вышла вторая книга будущей трилогии — «Две зимы и три лета» — Виктор Астафьев написал своему другу восторженное письмо. Это был уже 1958 год. Астафьев только что выпустил свой первый «деревенский» роман «Тают снега», которого, кстати сказать, впоследствии стеснялся.
«Дорогой Федор!
Прочел твой роман в «Новом мире» и, хотя бы уже, как бы подготовлен письмом Твардовского, страницу из которого ты читал мне в Комарово, все равно роман произвел на меня ошеломляющее впечатление. Пронзительный, страшный роман о погубленном русском крестьянине. На какое-то время ты и Вася Белов исчерпали эту тему. После вас писать о деревне будет трудно, или вовсе невозможно. Я помню многих героев еще по «Братьям и сестрам», но сколько воды утекло с тех пор… Еще тяжелей, еще хуже русским людям сделалось, и они все живут мечтами, надеждами и уж не о стране Эльдорадо, не о светлом будущем, а о том, чтобы досыта пожрать. Не только слезы душили меня, когда я читал твою голую, светлую, как наледь, правду, но и зло, негодование, и не на паразитов, не на тупых руководителей и не на <неразборчиво>, а на самих твоих односельчан, за их тупую покорность, за жуткое терпение. Вот на таких-то воду и возят! Ты, как и многие среднерусские писатели, как бы и умиляешься этим, ставишь своим архангельским мужикам многотерпение в заслугу и плачешь вместе с ними. Вот этого, ни у тебя, ни у Васи Белова, ни у кого другого, принять я не могу и понять не умею.
Я — сибиряк, и рабьей покорности не терплю…
Твои архангельские мужики и бабы — это увесистые кирпичи в рассказе о правде нашей жизни. Я тоже свой кирпич слепил — закончил повесть о сибирской деревне «Последний поклон»…
9
Пришло время, Федор Абрамов расстался с кафедрой в родном ЛГУ и целиком занялся литературой, прозой. Публикации, книги приносили не только моральное удовлетворение, но и хорошие гонорары. По-прежнему помогал братьям и сестре, многочисленным племянникам. Построил в Верколе дом, где подолгу работал. В печати появились новые рассказы, повести. В театрах по его произведениям лучшие режиссеры страны ставили спектакли. Зарубежные поездки. Переводы книг на иностранные языки и языки народов СССР. Встречи с читателями. Многочисленные интервью. Выступления на радио. Когда не уезжал на Пинегу, сидел, как прикованный к столу, в Комарове в доме творчества и работал, работал, работал.
Его печатают ленинградские и московские литературные журналы. Но во взаимоотношениях с «Новым миром», который по-прежнему желанен и где главным редактором снова Твардовский, продолжается затянувшаяся пауза. Там не забыли разгона после публикации скандальной статьи. Не забыли и абрамовского покаяния. В «Звезде» тем временем появляется большой цикл повестей и рассказов Абрамова под общим заголовком «На северной земле: Повесть и рассказы». По сути дела, это книга прозы, где связующим центром стоит повесть «Безотцовщина». Книга, дополненная новыми рассказами, вскоре и вышла в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель». Но «Новый мир» не приглашал, Твардовский молчал, имея к тому молчанию, по всей вероятности, свои причины. Получал к Новому году очередную открытку — традиция новомирцев к новогоднему празднику поздравлять своих авторов. Новогодняя открытка, и не более того. Ни звонка, ни приглашения.
Это было то время, когда место в литературе определяли журналы. Не книги, нет. «Толстые» литературные журналы. У них были большие тиражи, широчайшее на весь Советский Союз и мгновенное распространение по почте — по подписке и по киоскам «Союзпечати». Флагманом среди «толстяком» по-прежнему оставался «Новый мир».
Абрамов в те годы работал много. Публиковался часто. Его то возвышали, то в очередной раз били, зачастую оскорбительными рецензиями в «Литературной газете», «Литературной России», в «Правде», в «Крестьянке», в областных газетах «Ленинградская правда» и «Правда Севера». Особенно досталось за повесть «Вокруг да около». Была даже организована статья, и не просто статья, а крайне подлая — от имени земляков, в которой Абрамова упрекали в частнособственнических настроениях «вокруг да около» деревенского приусадебного хозяйства: «Не туда нас зовете, земляк…»
Пережил и это.
В середине 60-х он закончил, наконец, вторую книгу тетралогии (уже задуманной!) о Пряслиных. И послал ее в «Новый мир». «Две зимы и три лета» — так назывался новый роман. Одновременно подал заявку в Ленинградское отделения издательства «Советский писатель» на включение его в планы 1966 года. В заявке написал: «События в этой книге развертываются в первые послевоенные годы. Задача автора — показать в художественных образах и картинах переход нашей деревни от войны к миру, ее трудности и противоречия, связанные с культом личности и войной, и вместе с тем открыть те здоровые начала народной жизни, которые, несмотря ни на что, пробивали себе дорогу».
Работа была титанической. Известны четыре авторских редакции романа. Одна из них — для «Нового мира». Желание опубликовать «Две зимы…» именно в журнале Твардовского было столь велико, что он, увлекшись правкой, не просто устранил все те замечания, которые получил по прочтении рукописи в редакции, и не просто исполнил пожелания редактора, а буквально переписал места, показавшиеся сомнительными. На это ушло полгода. Договор с «Новым миром» был уже заключен, но гарантии того, что публикация состоится, все же не было. Тем более что над Твардовским снова стали сгущаться тучи.
Федор Абрамов, чтобы хоть как-то отвлечься от мучительных ожиданий ответа редакции, уехал в Верколу. Твардовский отозвался письмом, в котором были и такие строки: «Я давно не читал такой рукописи, чтобы человек несентиментальный мог над нею местами растрогаться до настоящих слез и неотрывно думать о ней при чтении и по прочтении…» Твардовский указал на ряд недостатков, и их предстояло устранить в самые короткие сроки. Это письмо и читал Абрамов Астафьеву в доме творчества в Комарове.
«Две зимы…» открыли новый 1969 год и шли с продолжением в трех номерах.
Второй роман тетралогии был написан уже твердой и свободной рукой. Смелой и уверенной в своей смелости. В послевоенной деревне крестьянину жилось не легче, чем в войну. И этого Федор Абрамов не утаивал. За что и страдал. Что и отметил с восторгом Астафьев в своем письме.
Реакция критики была разной. В основном, как всегда, громили. Твардовский выдвинул роман Абрамова на Государственную премию по литературе. Это был почти вызов. Премию, конечно, не дали. Из дневника 10 ноября 1969 года: «Премию не дали. Это надо было ожидать. Макогоненко1 по этому поводу мне прочитал целую лекцию. С чего дадут очернителю, автору «Нового мира»? Да ведь это признать правильность линии журнала, оправдать его. А кроме того, не забывай: премии — это бизнес…»
После публикации романа для Абрамова в «Новом мире» словно плотину прорвало: буквально в ближайшее время публикуются повести «Пелагея», «Деревянные кони». Правда, последняя из повестей — уже без Твардовского. Эпоха Твардовского в «Новом мире», да и самого «Нового мира», для русской литературы трагически заканчивалась. Какое-то время длилась инерция, а потом журнал начал потихоньку гаснуть. Не помогали и яркие личности, приходившие на должность главных редакторов. Твардовский зажег яркую эпоху «Нового мира», Твардовский своим уходом ее и погасил, словно, выходя из своего кабинета, задел невзначай единственный светильник, и он полетел со стола в тартараты…
10
Однажды, когда Абрамова в очередной раз наградили, а незадолго перед этим избрали в правление Союза писателей РСФСР по русской прозе, среди поздравлений он нашел письмо от друга Михаила Щербакова и тут же ответил ему: «Федосеич, ты ли это? Неужели ты придаешь значение всей этой х… — и выборам в правление, и награждению орденами (да, да, меня наградили) и пр. и пр.? Нет, я думал ты умнее.
В составе правления сейчас что-то около 200 человек. Порядочно, верно? А писателей сколько там? А писателей пересчитаешь по пальцам. Вот тебе и цена всем почестям. Нет, друг мой, в литературе чины ерунда, в литературе книги имеют значение. Книги — и больше ничего!»
Новый роман о Пряслиных «Пути-перепутья» был закончен в 1972 году и опубликован в начале 1973 года. Роман снова выходил в «Новом мире», претерпев целую череду переделок и правок. Роман зарубили в издательстве «Современник», вернули с резко отрицательной рецензией Виктора Чалмаева. Рухнула бы публикация и в «Новом мире», но кто-то подсказал обратиться письменно к секретарю ЦК КПСС, кандидату в члены Политбюро Петру Ниловичу Демичеву. Демичев неожиданно пригласил Федора Абрамова для личной беседы. Собеседники с первых же слов нашли общий язык. Им, родившимся и воспитанным деревней, трудом на земле (П.Н. Демичев родился и вырос в калужской деревне), не надо было долго искать тему для разговора. Поговорили они и о проблемах «Нового мира». Вскоре после этой встречи в журнале появился новый главный редактор — Сергей Наровчатов. Был снят негласный запрет для публикации повести «Вокруг да около», которую до этого не брало к печати ни одно издательство страны. А П.Н. Демичев вскоре станет министром культуры СССР.
В 1975 году трилогия «Пряслины» получила Государственную премию СССР по литературе. Произошла своего рода реабилитация Федора Абрамова, имя которого до этого неоднократно упоминалось в партийных постановлениях как автора произведений идейно не выверенных, деформирующих правду жизни советской деревни.
11
В середине семидесятых годов Абрамов засел на очередной, четвертый роман о Пряслиных. Это был роман «Дом». Одной из своих давних читательниц он писал, отвечая на вопрос, будет ли продолжение деревенской саги о Пекашине и ее обитателях: «У меня желание <…> — довести жизнь Пряслиных до наших дней. Да, да, будет четвертая книга. Все ладно, я скоро за нее засяду. И уже есть название (а это немаловажно в нашем деле — «Дом».
Весной 1978 года в «Новый мир» полетел из Ленинграда пакет с рукописью — «Дом» был готов.
В интервью «Литературной газете» 22 марта 1978 года Федор Абрамов скажет: «Главные жители «Дома» по-прежнему Пряслины — Михаил и Лиза, их младшие братья-близнецы Петр и Григорий, уже повзрослевшие, сами вступившие в пору зрелости. Завершаются в романе и судьбы других героев — Анфисы Петровны, Ивана Лукашина, Подрезова, Петра Житова, Евсея Мошкина, Егорши Суханова-Ставрова. Конечно, за двадцать лет в Пекашине выросла смена, всколосилось новое поколение, которому открываются новые дали. И здесь же, в Пекашине, доживают свой век зачинатели нашей советской нови, герои Гражданской войны и первых пятилеток — Калина Иванович Дунаев и его жена Евдокия. Словом, люди и время, время и люди — вот что меня особенно волнует как писателя…
Я доволен уже тем, что «Дом» построен. Завершена работа пяти-шести лет. И мне хотелось бы, чтобы у него была счастливая судьба…»
Роман в печати шел тяжело. «Новый мир» выкатил список в шестьдесят пунктов замечаний: там-то убрать, там-то усилить то-то и то-то, повысить дух партийности, прописать четче духовную преемственность поколений…
После устранения «недочетов» поехал в Москву, встретился с главным редактором Сергеем Наровчатовым, с секретарем правления Союза писателей СССР Георгием Марковым, с кем-то в министерстве культуры СССР и даже в ЦК КПСС. Но уезжал в Ленинград с тяжелым сердцем: не было уверенности, что роман пойдет даже после такой густой правки. Поэтому перед самым поездом из номера гостиницы «Москва» написал письмо Наровчатову: «Роман духовно здоровый, роман партийный по самому высокому счету. И во имя нашей общей веры, о которой мы так славно начали разговор и который, я надеюсь, продолжим, во имя наших святых ребят, которые на войне погибли за эту верну, во имя тех, кто и сегодня верен знамени (А. Овчаренко в восторге от Калины Ивановича!) — во имя всего этого прошу Вас, умоляю, если хотите: дайте скорее журнальную жизнь роману!»
А дома, в Ленинграде, записал в дневнике: «Все сделал, чтобы выиграть битву за роман. Звонил по телефону, обивал пороги, расплывался в улыбках, кланялся в пояс, поддакивал и прикидывался ортодоксом, играл в демагогию, отпускал комплименты… и выходил из себя, орал, угрожал, разъяренным быком кидался в атаку…
Нате, сволочи! Всю жизнь живу, а ползаю на брюхе, а уж ради романа-то сам Бог велел идти на всякие подлости.
Нет, подлостей больших не было. Слава богу, не было. Но игры, прикидонства и ярости неподдельной — хоть отбавляй.
Знаю, хорошо знаю: пользы от этого немного. Но, во-первых, все сделал, не в чем упрекнуть себя, а, во-вторых, духовная накачка…»
Роман все же вышел.
Критика снова негодовала.
В дневнике в те дни Абрамов записал: «Я один. Я всегда один. Даже В. Белов меня не поддерживает».
Василий Белов всегда по-братски напоминал Абрамову: мол, бранить и попрекать русских людей, тыкать носом в наши недостатки и слабости есть кому и без нас…
Но большинство откликов были все же положительными.
Тетралогия о Пряслиных была завершена. Но как спутники большого космического тела отлетали от «Дома» и предшествующих романов горячие куски… Почти одновременно с завершающим романом в журнале «Москва» была опубликована статья Абрамова в соавторстве с Антонином Чистяковым «Пашня живая и мертвая». Читатели сразу определили: эта публицистическая статья, быть может, посильнее повести «Вокруг да около». «Вековая крестьянская изба уходит в историю. Исчезают дальние деревеньки. Это естественный процесс. Но кто должен заботиться, чтобы вместе с деревнями не исчезли и пашни?»
После «Дома» были несколько рассказов да повесть «Мамониха». Все мысли были устремлены в новую крупную работу — душе она уже началась — в рукопись итоговой «Чистой книги».
12
«Письмо землякам» — публицистическая статья о судьбах русской деревни и людях, живущих в ней, — добила Федора Абрамова. Не сама, разумеется, статья, а реакция властей на ее появление и те основополагающие смыслы, которые она несла. В писательской среде ходили тогда разговоры: мол, лучше бы Абрамов не публиковал той статьи, что кто-то его пылкое «раненое сердце» на это сподвигнул, не просчитав реакции, что статья добила и без того гаснущее здоровье писателя.
Но теперь, на расстоянии времени, все видится иначе.
Времени на завершение «Чистой книги» уже не было, и Абрамов всю силу, страсть, негодование и любовь вложил в статью. «Я писал о крестьянской совести односельчан, — сказал он, выступая перед читателями в Лужском районе Ленинградской области, — все ли они делают для того, чтобы закрома полнились, чтобы в магазинах страны не переводилось молоко и мясо?» Червоточину писатель увидел и в самом крестьянине, который с легкостью бросал землю, не желал на ней работать.
«Письмо землякам» появилось в печати в 1979 году. Вначале в «Пинежской правде» под названием «Чем живем-кормимся?» Через три месяца в несколько урезанном виде его перепечатала «Правда». А еще через месяц в той же «Правде» появилась жесткая критика «Письма…» В начале 1980 года Абрамов записал в дневнике: «Три месяца не жил, а чах. Не было сил, стенокардия, настроение — в могилу ложиться».
Абрамов рассчитывал, что письмо, затронувшее давно назревшую тему многих проблем сельского хозяйства страны, вызовет широкое обсуждение этих проблем. Но ответом была тишина.
Вместо этого в феврале вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Федора Александровича Абрамова орденом Ленина в связи с его шестидесятилетием со дня рождения.
«Письмо землякам» постепенно стали забывать. Но мысли, которые, по мнению Абрамова, должны были отозваться в обществе эхом самой широкой дискуссии, жили в нем до самого ухода. Смело высказывал их на встречах с читателями, развивал их вширь и в глубину.
И постоянно думал о «Чистой книге». Делал черновые наброски, записи, иногда целые главы.
В этой книге Абрамов хотел написать и о войне. О пережитом в окопах под Ленинградом. «Мое место на фронте…» О войне прекрасно писали его литературные братья Виктор Астафьев, Юрий Бондарев. Часто получал от них письма. Иногда, для первого прочтения, присылали рукописи. В то время так было заведено. Друг другу доверяли, внимательно выслушивали приговоры. Правили с учетом дружеских замечаний, зачастую довольно строгих.
В феврале 1983 года он засел за рукопись основательно. Одному из друзей-писателей признавался: «Начал писать большую историческую вещь, в которой хочется подумать о путях России, о духовных исканиях разных социальных групп и сословий в начале XX века. Получится ли? Хватит ли сил?»
Не хватило жизни.
Умер он в ночь на 14 мая 1983 года. Тело увезли на родину, в Верколу, к матери. Так он завещал.
Многое из написанного опубликованным он так и не увидел. Воспоминания об Александре Яшине. Статью о Василии Белове. Другое. Но главное — о войне.
Когда-то в 1965 году его попросили выступить перед студентами и преподавателями филфака родного ЛГУ. Задали вопрос о войне и о том, как она отображается в литературе. И он сказал то, о чем давно размышлял, читая прозу «лейтенантов» и вспоминая свою войну: «Сегодня иногда приходится слышать: о войне надо писать правду, но правду такую, которая бы не разоружила нас духовно. Я думаю, есть одна правда. И настоящая правда никогда и никого не разоружает. А потом — разве правда о войне с оговорками — не оскорбление тех, кто погиб?»
«Нельзя заново возделать русское поле, не возделывая души человеческие, не мобилизуя всех духовных ресурсов народа, нации. И тут <…> огромная роль принадлежит литературе, правдивому и вдохновляющему слову. Слову, которое зовет к утверждению истины, добра и справедливости на земле!»
Из выступления перед читателями 15 декабря 1980 года в Москве в библиотеке им. В.И. Ленина: «Начну с русского дома. По-моему, ничего этого нет важнее. Не буду касаться всех комнат русского дома. В Москве, в Ленинграде, в других городах дома, как вы знаете, красивые. Но у всякого дома, кроме парадных комнат, есть жилые комнаты, подсобные помещения. Вот эти-то последние, а они главные, нуждаются в ремонте, в конкретной перестройке. Особую тревогу вызывают поля, окружающие дом. Дом не может существовать без поля, без нивы. А нива плохо кормит нас. Хлеб мы который уж год ввозим из-за границы… Всюду бюрократизм. Районный центр сейчас — это поселок чиновников!.. Я за власть, но слишком уж велики у нас управленческие штаты. Надо сделать так, чтобы крестьянин был не работягой, а творцом… «Писатели-деревенщики» — термин дикий и несообразный, а пишут они о глубинных процессах, происходящих в России, и роль свою выполняют неплохо…»
Из дневника 22 марта 1971 года: «России, возможно, предстоит пройти тот путь, который она прошла с 19 в. до февраля 17-го… И, возможно, она снова должна родить Чаадаева, Герцена… Короче, выпестовать свою интеллигенцию.
Да, гибель интеллигенции — это, несомненно, самый страшный итог революции».
Из дневника 18 марта 1974 года: «Вся история России XIX века — это искание путей справедливого устройства народной жизни.
Одни (славянофилы, Достоевский, Толстой) все упования свои возлагали на духовное, нравственное обновление человека.
Другие (Разночинцы, марксисты) — на социальное возрождение.
Задача: воссоединить эти пути в единое целое, ибо, игнорируя человека, его нравственную природу, нельзя сделать что-либо путное, как нельзя достигнуть результатов и противоположным путем. Одно дополнить другим. И то и другое решать одновременно».
Публикации
Люди колхозной деревни в послевоенной прозе. — М.: «Новый мир», 1954, № 4.
Братья и сестры. Роман. — Л.: «Нева», 1958, № 9.
Братья и сестры. Роман. — М.: Гослитиздат, 1959.
Братья и сестры. Роман. — М.: «Роман-газета», № 12.
На северной земле. Повесть и рассказы. — Л.: «Звезда», 1961, № 1.
Безотцовщина. Повесть и рассказы. — М.–Л.: Советский писатель, 1962.
Один Бог для всех. Пьеса в 4-х действиях, 11 картинах. — Л.: «Нева», 1962, № 8.
На Северной земле. Рассказы. — Л.: «Звезда», 1962, № 4.
Вокруг да около. Повесть. — Л.: «Нева», 1963, № 1.
Жила-была семужка. Рассказы и очерки. — М.: Советская Россия, 1963.
Братья и сестры. Роман, повести и рассказы. — Л.: Лениздат, 1963.
Братья и сестры. Безотцовщина. Рассказы. — М.-Л.: Художественная литература, 1966.
Две зимы и три лета. Роман. — М.: «Новый мир», 1968, № 1–3.
Две зимы и три лета. Роман. — Л.: Советский писатель, 1969.
Пелагея. Повесть. — М.: «Новый мир», 1969, № 6.
Сосновые дети. Повесть и рассказы. — М.: Советская Россия, 1970.
Деревянные кони. Из рассказов Олены Даниловны. — М.: «Новый мир», 1970, № 2.
Братья и сестры. Две зимы и три лета. Романы. — Л.: Советский писатель, 1971.
Деревянные кони. Повести и рассказы. — Л.: Советский писатель, 1972.
Алька. Повесть. — М.: «Наш современник», 1972, № 1.
Последняя охота. Повести и рассказы. — М.: Советский писатель, 1973.
Пути-перепутья. Роман. — М.: «Новый мир», 1973, № 1–3.
Пути-перепутья. Роман. — М.: Современник, 1973. (Новинки «Современника»).
Избранное. В 2-х т. — М.: Художественная литература, 1975.
Избранное. — М.: Известия, 1976. (Б-ка журнала «Дружба народов»).
Пряслины. Трилогия. — М.: Современник, 1977.
Деревянные кони. Повести и рассказы. — Л.: Лениздат, 1979.
Дом. Роман. — М.: «Новый мир», 1978, № 12.
Дом. Роман. — Л.: Советский писатель, 1979.
Пролетали лебеди. Рассказы. — Л.: Детская литература, 1979.
Пелагея. Алька. Повести. — М.: Современник, 1980.
Из колена Аввакумова. Сб. «Рассказ-79». — М.: Современник, 1980.
Алые олени. — М.: Малыш, 1980.
Братья и сестры. Роман. В 4-х кн. — М.: Современник, 1980.
Мамониха. Повесть. — Л.: «Нева», 1980, № 9.
Трава-мурава. — М.: «Советская Россия», 1980, № от 16 ноября.
Собрание сочинения в 3-х т. — М.: Художественная литература, 1980–1982.
Бабилей. Рассказы. Повести. — Л.: Советский писатель, 1981.
Трава-мурава. Повести и рассказы. — М.: Современник, 1980.
Две зимы и три лета. Роман. — Ижевск: «Удмуртия», 1982. (Сельская библиотека Нечерноземья).
Награды
Медаль «За оборону Ленинграда». — 1944.
Орден Отечественной войны II степени. 1946.
Орден «Знак Почета». — 1971.
Орден Ленина. — 1980.
Государственная премия СССР по литературе за трилогию «Пряслины». — 1975.
Глава вторая
ЮРИЙ БОНДАРЕВ
ПРИБЛИЖЕНИЕ К НЕПОСТИЖИМОМУ
1
Без Юрия Бондарева, без романов «Батальоны просят огня», «Горячий снег» и «Берег» невозможно представить «лейтенантскую прозу». Да и русскую прозу советского периода тоже. Кажется, что именно он в своей прозе, в своих повестях, романах и мгновениях наиболее явно приблизился к тому, что сам же определил как НЕПОСТИЖИМОЕ в литературе. И не только в литературе. Даже если подойти формально: время написания и публикации, интенсивность появления сторонников и последователей, силу проявления этой волны — «лейтенантской прозы» — силу воздействия ее на читателей, отражение ее в критике и все прочее, то можно смело утверждать, что эта мощная проза вышла из «Батальонов» и «Горячего снега».
Здесь несколько слов необходимо сказать о литературном термине «лейтенантская проза» или «лейтенантская литература». Этот термин появился именно тогда, в конце 50-х, когда вышли в свет романы и повести Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» (1957 г.), «Последние залпы» (1959 г.) и Григория Бакланова «Южнее главного удара» (1957 г.) и «Пядь земли» (1959 г.). В периодике, как это происходило в те годы, сразу начались бурные дискуссии критиков, литературоведов, публицистов и просто читателей. Соцсетей не было, и все выплескивалось на страницы газет и журналов, в многолюдные аудитории, где проходили встречи авторов с читателями. Культурный заряд в обществе было настолько высок и прочен, что даже двадцать лет спустя, когда в литературу начало входить наше поколение, после таких встреч мы приходили в общежития и горстями выгребали из карманов читательские записки, а письма из журнала «Юность» я перевязывал бечевкой, чтобы довезти их до Тарусы и спокойно прочитать там. И критики, и читатели сразу отметили среду, к которой принадлежали главные герои повествований и где происходили основные события и завязывались узлы сюжетов и конфликтов. Герои Юрия Бондарева и Григория Бакланова командовали взводами, батареями, батальонами. Они всегда рядом с рядовыми бойцами, всегда в окопах, да и сами порой выполняют солдатскую работу, ведут огонь по немецким танкам и пехоте, добывая свои маленькие в масштабах войны победы. Как правило, это молодые офицеры, вчерашние школьники, получившие погоны с одним просветом на ускоренных курсах, иногда после ранений.
К «лейтенантской литературе» относили именно их, выживших в солдатских окопах и рядом с солдатами. Иногда этот термин употреблялся с оттенком пренебрежения и уничижения. Иногда с уважением перед юностью и искренностью героев. Параллельно с «лейтенантской прозой» шли мемуары маршалов и генералов, и существовала очень влиятельная среда, которая ориентировала общество именно на правду военачальников. А она зачастую разнилась и даже противоречила тому, о чем писали вчерашние окопники. Надо было примирить, согласовать две этих волны. А они никак не примирялись, не согласовывались. Вот почему дискуссии в обществе идут и поныне. Одни твердят, что в Великую Отечественную войну победил простой солдат, другие — что без хорошо продуманных, тщательно спланированных и затем четко, по графику проведенных операций, никаких побед, ни малых, ни больших, не было бы. Правы и те, и другие. Но «лейтенанты» несли свою правду — «суровую правду солдат». Потому что, если взять, к примеру, Василя Быкова, то большинство его повестей о рядовых бойцах и партизанах, вчерашних колхозниках, школьниках и школьных учителях.
Формально же «лейтенантская проза» отсчитывает свои сроки от выхода в свет романа Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда». Произошло это в 1947 году. Тогда же автор «Окопов» получил Сталинскую премию по литературе. Сам Сталин выбрал книгу о боях на Волге, и, казалось, военной теме дан зеленый свет. Но все оказалось иначе. Один из современных литературоведов и критиков заметил, что Некрасов только наметил позицию «лейтенантской прозы», но не удержался на этой высоте. Что ж, может, это и справедливо. А закрепились на ней, на той позиции, те, кто пришел сменить его — Курочкин, Быков, Бакланов и, конечно же, Бондарев.
2
Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в городке Орске под Оренбургом. Отец Василий Васильевич Бондарев (1896–1988) был адвокатом и народным следователем. Служил в Русской армии и воевал в Первую мировую войну. Мать Клавдия Иосифовна, в девичестве Гришаенко (1900–1978) работала в административных органах. В 1931 году семья перебралась в Москву, поселились в Замоскворечье. Юрий учился в средней школе № 516.
В школе вместе с одноклассниками Юрий занимался выпуском рукописного литературного журнала, в котором печатались стихи и рассказы, написанные школьниками. Учителя уже тогда замечали его первые успехи и восхищались стройностью и самостоятельностью мысли в его сочинениях на темы произведений русской классики. Кто учился в школе по старым программам и учебникам, где литературе и родному языку уделялось поистине достойное место, тот помнит, как это просветляло и облагораживало душу, оставляя в ней свет Пушкина, Тургенева и Толстого на всю жизнь, даже если последующие годы и не были связаны с литературой. Сам же Бондарев признавался, что сперва литературу в школе не полюбил.
Занимался спортом — тяжелой атлетикой и гимнастикой. Довоенная молодежь была спортивным поколением. Закаленным, выносливым, физически крепким. Потом, на фронте, это особенно скажется.
Когда началась война, Бондарев вместе с комсомольцами из своего класса отправился в Смоленскую область на строительство оборонительных сооружений — рыли противотанковые рвы, строили землянки, блиндажи. Москва и Московская область отправляла молодежь под Смоленск, Вязьму и Дорогобуж целыми эшелонами. Тогда еще жила не просто надежда, а твердая уверенность, что врага, каким бы сильным и стремительным он ни был, дальше этих рубежей Красная армия не пустит. Бондарев со своими сверстниками копал противотанковый ров на Варшавском шоссе близ Зайцевой Горы.2
Тем временем семья Бондаревых — мать, брат и сестра — эвакуировалась в Северный Казахстан, в Актюбинскую область. Юрий вскоре приехал к ним. Работал в колхозе, затем на угольной шахте — забойщиком и откатчиком.
Весной 1942 года получил повестку из военкомата. Военком изучил документы Бондарева и выписал направление не на фронт, а в тыл.
В Северный Казахстан. В Актюбинск. Там размещалось недавно эвакуированное из Белоруссии 2-е Бердичевское пехотное училище. Учились недолго. Ускоренный курс. Курсантам присваивали лейтенантские и сержантские звания, направляли командирами взводов и отделений в спешно формируемые дивизии, бригады, а иногда и в маршевые батальоны и роты, и — на фронт. Осенью 1942 года в этот спешно сформированный поток влился и Бондарев.
В то время уже становилось очевидным, что война затягивается, что повоевать достанется всем, но молодежь с прежним рвением стремилась поскорее попасть на фронт. И судьба расплатилась с сержантом Бондаревым сполна: полугодовая пауза была восполнена тем, что его 98-ю стрелковую дивизию прямым ходом направили в район Сталинграда.
Развертывался очередной акт Сталинградской драмы. Уже сомкнулось железное кольцо войск Донского и Сталинградского фронтов вокруг 6-й армии Паулюса. Гитлер прислал приказ окруженным ни при каких обстоятельствах своих позиций не покидать. Позиции армии Паулюса действительно были надежными, основательными в инженерном отношении, значительно развитыми в глубину. И все же Гитлер переоценивал возможности своих солдат на Восточном фронте, а возможно, просто не знал истинного положения дел в междуречье Волги и Дона. По его приказу командующий группой армий «Дон» фельдмаршал Манштейн бросил сильную ударную группировку на выручку 6-й армии с целью деблокировать окруженных и восстановить фронт. Так началась операция под кодовым названием «Зимняя буря» («Wintergewitter»).
Операцию по деблокаде проводили танковые и моторизованные соединения 4-й танковой армии генерала Гота. Танково-моторизованная группировка с приданными ей частями получила название, как это было принято в вермахте, по имени ее командующего — группа «Гот».
Вечером 12 декабря Сталин со своими маршалами и генералами обсуждал тяжелое положение, сложившееся вокруг сталинградского «котла». Командующий войсками Донского фронта К.К. Рокоссовский запросил передачу ему 2-й гвардейской армии Р.Я. Малиновского для ликвидации окруженной 6-й армии. Но Сталин, опасаясь риска, принял решение бросить 2-ю гвардейскую навстречу группе «Гот», а уже после, когда будет остановлен деблокирующий удар, решительно заняться уничтожением «котла».
Девяносто восьмая стрелковая дивизия, в которой будущий автор романа «Горячий снег» командовал минометным расчетом, входила в состав 1-го гвардейского стрелкового корпуса. Корпус, в свою очередь, входил в состав 2-й гвардейской армии.
В какой-то момент судьба немецкой 6-й армии решалась не в Сталинграде, а на реке Мышковой. Кто первым займет старые позиции по урезу этой степной реки? Кто первым овладеет прибрежными хуторами, в том числе Васильевкой и Капкинским? К Мышковой и к хуторам спешили обе стороны — и танки Гота, и гвардейцы Малиновского.
Рядом с 98-й наступала, форсированным маршем спеша к Мышковой, 3-я гвардейская стрелковая дивизия, в ней 13-м гвардейским стрелковым полком командовал подполковник Василий Филиппович Маргелов, будущий командующий ВДВ Советской Армии. Именно его полк оборонял Васильевку и соседний хутор, именно с этого рубежа наши ПТО жгли немецкие танки, стремившиеся захватить и удержать плацдарм для дальнейшего броска к Сталинграду. Отсюда до позиций 6-й армии Готу оставалось 50 километров. Половина пути. Но если оборону на Мышковой удастся взломать, то дальше, до самого Сталинграда можно было двигаться походным маршем — крупных войск позади мышковского рубежа практически не было.
Но части 2-й гвардейской армии выстояли, а потом и пошли вперед, с ходу захватили Кутейниково, Батайск, другие крупные станицы, города, вышли к Ростову-на-Дону и вскоре овладели им. Немцы вынуждены были отвести 4-ю армию Гота, чтобы укрепить фронт на Миусе и попытаться закрыть Красной армии путь на Донбасс. Фон Манштейн спустя годы напишет: «Донбасс играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он считал, что от овладения этой территорией, расположенной между Азовским морем и низовьями Днепра, простирающейся на запад (примерно по линии Мариуполь — Красноармейское — Изюм), будет зависеть ход войны. Гитлер утверждал, что без запасов угля этого района мы не можем выдержать войну в экономическом отношении».
Сын Маргелова Виталий Васильевич рассказывал о реакции отца на прочтение романа «Горячий снег». Роман вышел в 1970 году. Кто-то сразу принес книгу командующему и сказал: вот, мол, о твоей Васильевке человек книгу написал…
— Отец прочитал книгу с удовлетворением и сказал, что картина тех боев в книге отражена правдиво. И, положив руку на обложку, добавил: «Это и мой горячий снег».
3
А между тем роман «Горячий снег» не был пробой пера сталинградца Юрия Бондарева. Читатель его уже знал. Знал по книгам рассказов «На большой реке» (1953), «Поздним вечером» (1962), по повестям «Юность командиров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957), «Последние залпы» (1959), романам «Тишина» (1962), «Двое» (1964).
К моменту работы над романом «Горячий снег» о боях под Сталинградом Юрий Бондарев был уже сложившимся писателем, одним из родоначальников прозы бывших фронтовиков, целого направления в литературе, которое уже пробило брешь в охранительной критике и успешно развивалось от книги к книге.
«Задумываться о литературной профессии начал еще в школе, — рассказывал Юрий Васильевич. — На войне относился к событиям, встречам, разговорам с «задней мыслью» — вдруг пригодится? Что-то мерцало в сознании… Первые рассказы стал сочинять, вернувшись с фронта».
Тогда, вернувшись с фронта, они гурьбой хлынули в Литинститут. Со следами споротых погон на застиранных гимнастерках и заношенных шинелях. Выросшие из школьных пиджаков и платьев и еще не имевшие средств для покупки повседневной гражданской одежды, они пришли в институтские аудитории, потому что все предыдущие годы, несмотря на кровь, грязь, смерть и страдания своих боевых товарищей и свои собственные, бредили Пушкины и Достоевским, Толстым и Есениным. Для них, заглянувших в глаза смерти, Пушкин и Есенин казались первыми помощниками в попытке освободиться от фантомных болей войны. Но они ошибались. Погружение в тайны Слова, постижение его магической силы только будоражили старые раны, будили память, беспокоили совесть…
Юрию Бондареву необыкновенно повезло. Его взял в свой творческий семинар Константин Георгиевич Паустовский. Признанный мастер слова, благородный человек, учитель. Но путь в семинар прозы Паустовского не был прямым и простым. Дело в том, что главным и определяющим все остальное при поступлении в Литературный институт им. А.М. Горького является творческий конкурс. Абитуриент должен представить книгу или рукопись. И по ней профессор, набирающий свой семинар, решает, брать или не брать того или иного абитуриента в институт. В этом есть некая жестокость, но есть и та труднопреодолимая, но необходимая планка гамбургского счета, которая отсекает безнадежное и бесплодное, что не должно обременять литературу и не составлять ненужную конкуренцию даровитым, дар которых еще предстояло раскрыть.
Творческий конкурс. Как преодолеть его? Это похуже минного поля и первого рубежа обороны противника… Тогда ведь у Бондарева не было ни «Батальонов», ни «Юности командиров», даже в рукописях.
Бондарев, по его признанию, явился в приемную комиссию с тетрадкой стихов. На всякий случай, захватил с собой и листки с рассказами. Но главной ударной силой были, как ему казалось, все же стихи. Секретарь комиссии взяла тетрадь, начала читать стихи. Читала, конечно же, по диагонали. Диагноз был категоричным и убийственным для «поэта». «Юра, забудьте про это!» — сказала она, порвала стихи и бросила в корзину. Листки же с рассказами, которые оказались помилованными, прикрепила к документам. «К счастью, — вспоминал Бондарев в одном из интервью 2014 года, — на рассказы обратил внимание Паустовский, зачислил на свой семинар — без экзаменов. Константин Георгиевич занимал в нашей литературе уникальное место. Выделялся стилистикой, выбором героев, внимательной мягкостью к человеку. Во всех жанрах — и романах, и статьях — проявлял себя интеллектуалом высшей пробы. Паустовский всю жизнь помогал мне советами».
Биографы Бондарева к этому интервью делают некоторую существенную поправку: дело в том, что на первый курс в Литинститут Бондарев попал к Федору Гладкову. Когда же творческий семинар Гладкова в Литинституте распался, семинаристов разобрали по другим группам. Бондарев и Бакланов, в те годы неразлучные друзья, были зачислены к Паустовскому. Паустовский сразу полюбил Бондарева. К Бакланову и его литературным способностям относился сдержанно.
«Некто скептичный, прочитав книги Паустовского и мои, мог бы заключить, что учеба у него мало что мне дала, поскольку писательские манеры наши весьма далеки одна от другой. — Бондарев снова и снова как будто возвращался в литинститутские аудитории и углублял свою мысль о наставнике. — Но Паустовский сделал для меня чрезвычайно много: привил любовь к великому таинству искусства и слова, внушил, что главное в литературе — сказать свое. Вряд ли можно требовать от учителя большего».
Все верно, большего можно требовать и ждать от ученика. И многие из учеников Паустовского действительно поднялись и прожили свою жизнь в литературе вровень с большими ожиданиями.
Студенты боготворили своего учителя. Гордился и он ими. Среди учеников, кроме Юрия Бондарева, были Ольга Кожухова, Владимир Солоухин. Вскоре они займут первые ряды русской советской прозы.
Ольга Кожухова напишет романы «Двум смертям не бывать», «Ранний снег», «Донник». Кстати, именно в «Доннике» очень сильно чувствуется Паустовский. Владимир Солоухин написал «Владимирские проселки» и «Каплю росы». А все ведь начинали со стихов. Паустовский научил поверить в прозу, почувствовать силу своего слова именно в ней, в прозе.
Кстати, Ольга Кожухова тоже начинала со стихов. А потом довольно уверенно и естественно вошла в «лейтенантскую прозу».
Стоит отметить еще и то, что именно Бондарев, столь далекий от Паустовского в смысле стилистики собственного письма, именно он произнес проникновенный монолог благодарного ученика мудрому учителю. И этот монолог — значительная часть великой души и творчества Бондарева:
«Паустовский-писатель и Паустовский-человек слиты воедино. Он открыт и щедр как человек. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что встречи с Паустовским на семинарах в Литературном институте были праздником, которого мы нетерпеливо ждали. Его общение со студентами высекало искру — хотелось писать лучше и хотелось любить жизнь и литературу так же, как он. Обычно он сидел за кафедрой, низко наклонившись к листкам рукописи, чуть отставив руку с потухшей папиросой, и говорил тихим, неторопливым, слегка скрипучим голосом — разбирал только что прочитанный студентом рассказ. Он говорил о значении весомости каждого слова, о выборе единственного эпитета, о ритме прозы, о непостижимом сочетании юмористического и трагедийного, о кратком пейзаже и психологическом контексте. Он говорил о любимых и нелюбимых словах, которые есть у всех писателей. Он рассказывал об остроте, зоркости и беспощадности писательского глаза. Он говорил о титаническом труде Флобера над фразой, он рассказывал о мастерстве Чехова, Куприна, Бунина. Он иногда сердился, внешне это было почти незаметно. Но фраза, сказанная им: «Это не проза, это перекатывание булыжников по мостовой», говорила о том, что прочитанный рассказ студента написан торопливо, неряшливо, без любви к слову. Однако, сам будучи превосходным стилистом, он был терпим к разным стилевым направлениям, к разным средствам выражения, но никому не навязывал своей манеры письма. Но он был нетерпим к рационалистической манере «чистописания», к той академической гладкописи, которая навевает ощущение пыльной пустоты покинутого навек дома. Довольно часто, разбирая сюжет, коллизию того или иного рассказа, он начинал вспоминать различные случаи из своей жизни, всегда удивительно интересные, полные юмора и неожиданных поворотов. И когда смеялся, морщинки доброты звездочками собирались возле век, и он, оглядывая нас, неторопливо чиркал спичкой по коробку, зажигая забытую папиросу. Он рассказывал нам готовые новеллы из своей жизни, и устные эти новеллы, уже тронутые писательским домыслом, были настолько хороши, что я глубоко жалею — он не все их успел записать и опубликовать позднее. Слушая Паустовского на семинарах, мы впервые понимали, что творчество писателя, его путь — это не бетонированная дорога с легкой прямизной, это не лавры самодовольства, не честолюбивый литературный нимб, не эстрадные аплодисменты, не удовольствия жизни. А это — «сладкая каторга» человека, судьбой и талантом каждодневно прикованного к столу. Это нечастые находки и горькие сомнения, это труд и труд и вечная охота за неуловимым словом. И мы понимали, что писатель всей мощью своих усилий, опыта, ценой своих радостей и страданий должен совершить чудо, которое совершает женщина, рождая ребенка, — написать рассказ, повесть, роман, пьесу, то есть сотворить жизнь, родить героя с неповторимым лицом, характером, страстями, значит, вложить в книгу самого себя без остатка, до опустошения. И все же тогда мы, студенты, еще не осознавали до конца весь смысл слов Паустовского, постоянно говорившего нам, что писать каждую книгу нужно так, будто это твоя последняя книга; не надо бояться отдавать ей все, расточительно и щедро».
В некий едва уловимый момент в этом монологе-признании и поклоне любимому учителю совершенно естественно формулируется собственный принцип, очертания своего пера, его формы, твердость-мягкость нажима и иные особенности. И все это под видом того, что якобы взято из учительских заветов, усвоено на творческих семинарах-понедельниках в Литинституте.
«… Но кто не испытывал того неудовлетворенного чувства, когда вещь закончена? Возникают усталость и опустошение — та сиротливая пустота, какая бывает в квартире, когда вывезена вся мебель, стены оголены и веет одиночеством. Иногда мы думаем, что нельзя расточить себя на какую-то одну вещь, что надо сдерживать себя, видя впереди другую, еще не написанную книгу — цель твоей жизни. И порой мы не знаем, какова же будет книга, о чем она, кто главный герой ее, но, видимо, это самая лучшая, та, которая не написана, но будет написана. Эту книгу и силу ее ты представляешь только по ощущениям, по неясному волнению, когда чувствуешь жаркий запах асфальта июльским днем, по фразе на улице, услышанной случайно, по походке незнакомой женщины в сумерках лета, по ее мимолетному взгляду, по запаху сырой земли, вдруг напомнившему смерть на безымянной высоте… Эти смутные ощущения будущей вещи каждый писатель носит в себе. Они мучают его до бессонницы, они неуловимы до отчаяния — и в этом, вероятно, один из импульсов к творчеству: приближаться к непостижимому, боясь и радуясь ожиданию новых образов, ибо будущая книга кажется нам совершенством. Опытнейший мастер слова, Паустовский прав: надо в каждой книге «выливаться» полностью, не жалея себя и не скупясь. Только так рождается чудо искусства, и так писатель может приблизиться ко всему тому, что создано гением природы. Ведь все, что мы пишем вообще, все искусство — это лишь приближение к красоте и сложности мира. Книги Паустовского свежи, солнечны, в них нет усталости, в них по-прежнему юный соленый запах моря, блеск южного полдня».
Вот так появился и «Горячий снег».
Паустовского тогда уже не было. Ни рядом, ни вообще на земле. Но оставались его книги. В учениках — его заветы, чувство благодарности от общения с ним.
4
Стрелковый полк майора Черепанова, усиленный артиллерийским взводом лейтенанта Дроздовского, и отдельный танковый полк получают приказ командующего — закрепиться на рубеже реки Мышкова, остановить немецкие танки и не дать им возможности, до подхода резервов, продвигаться в глубину нашей обороны, к Сталинграду, к окруженной группировке 6-й армии Паулюса.
Во время марша артиллерийских взводов к занесенной снегом реке Мышковой читатель знакомится с расчетами и их командирами, лейтенантами Кузнецовым и Давлатяном. Затем обустройство на позициях. И, наконец, бой с немецкими танками. Конфликт офицеров, лейтенантов. Кузнецов — Дроздовский. Конфликт глубокий, точнее, глубинный. Хотя батарейцам какое-то время кажется, что молодые лейтенанты — дело житейское — повздорили из-за женщины, из-за санинструктора Зои Елагиной. Для многих из них, в том числе и для всех лейтенантов батареи, предстоящий бой — первый на этой войне. Автор застает своих героев на пределе нервного напряжения.
В «Горячем снеге» явно проступают черты другого учителя, который, пожалуй, много строже Паустовского. К примеру, моменты ожидания немецкой атаки, налета «юнкерсов» и появления танков у моста через перемерзшую реку…
Тут Толстой.
«Все вновь заработали на огневой — заскрежетали лопатами, с тупой однообразностью забили кирками в звеневший грунт. Кузнецов поднял с земли свою кирку, но тут же выпустил ее и вышел на бруствер, глядя на свет зарева левее редких и темных домов пустой станицы, вмерзшей в синеватость ночи.
— Подойди, Уханов, — сказал Кузнецов. — Слышишь что-нибудь?
— А что, лейтенант?
— Послушай…
Тишина странная, почти мертвенная, широкими волнами распространялась от зарева — ни гула, ни единого орудийного раската не доносилось оттуда. В этом непонятном наступившем безмолвии громче и четче стали выделяться звуки лопат, кирок, отдаленные голоса пехотинцев, окапывающихся в степи, и подвывание артиллерийских машин на высотах сзади — на том берегу, где занимала оборону дивизия.
— Кажется, затихло, — проговорил Кузнецов. — Или остановили, или немцы прорвали…
— А справа? — спросил Уханов. — Тоже что-то…
Далеко по горизонту, правее зарева, прямо над крышами южнобережной части станицы, прорезалось второе сегментное свечение в небе и беззвучно вспыхивали круглыми зарницами, снизу упираясь в низкие облака, скользящие красноватые светы. Но и там стояло тяжелое безмолвие.
— Похоже на ракеты, — сказал Кузнецов.
— Похоже, — согласился Уханов. — Вроде прорвали. Правее. Прямо перед нами. Во всю жмут к Сталинграду, лейтенант. Вот что ясно. Хотят своих из колечка вырвать. И снова крылышки расправить.
— Пожалуй…»
«По звукам выходящих из пике самолетов они оба одновременно почувствовали: завершился очередной круг бомбежки. Метельные круговороты жаркого дыма несло из-за бруствера. «Юнкерсы», поочередно выходя из пике над берегом, выстраивались в круг, в это непрерывную небесную карусель, выходя над степью выше клубящейся черноты. Впереди и сзади за рекой горела огромным пожаром станица, бегущее по улицам пламя сталкивалось, перекручивалось; обрушивались кровли, выбрасывая в небо раскаленные тучи пепла и искр, лопались, выстреливали стекла: на околице пылало несколько исковерканных осколками автомашин, не успевших уйти в укрытие. Узкими ручейками стекал по откосу к реке и горел бензин. Над батареей, над берегом, над пехотными траншеями траурной завесой переваливался сгущенный дым.
Кузнецов выглянул из ровика, увидел все это, слыша выровненный звук моторов вновь заходивших на бомбежку «юнкерсов», скомандовал:
— Уханов!.. Успеем! Пошли!.. Ты — к первому, я — ко второму…
И с зыбкой невесомостью во всем теле выскочил из ровика, перепрыгнул через бруствер огневой позиции первого орудия, побежал по черному от гари снегу, по радиально разбрызганной от воронок земле ко второму орудию, откуда донесся чей-то крик:
— Лейтенант! Сюда! К нам!
Вся огневая позиция, ниши, ровики были закрыты тяжелой стеной стоячего дыма, везде комья подпаленного, выброшенного разрывами грунта, везде темный снег и земля: на брезентовом чехле орудия, на казеннике, на снарядных ящиках. Но панорама была цела, и Кузнецов, кашляя, задыхаясь, лихорадочными пальцами стал отсоединять ее, оглядываясь на ровики, откуда поднялась и пропала чья-то голова круглой тенью в дыму.
— Кто там? Вы, Чубариков? Вы живы?
— Товарищ лейтенант, к нам!.. К нам прыгайте!
Из левого ровика за нишей со снарядами высовывалась голова в косо державшейся на одном ухе засыпанной землей шапке. Голова покачивалась на длинной шее, выпуклые глаза мерцали возбуждением, призывом — это был командир второго орудия младший сержант Чубариков.
— Товарищ лейтенант, к нам!.. К нам прыгайте!..»
«И несмотря на то, что «юнкерсы» еще бомбили тылы и там кто-то умирал, Кузнецов почувствовал короткое облегчение, точно вырвался на свободу из противоестественного состояния подавленности, бессилия и унижения, что называют на войне ожиданием смерти.
Но в ту же минуту он увидел ракеты — красную и синюю, появившиеся впереди над степью и дугами упавшие в близкие пожары.
Весь широкий гребень и пологий скат возвышенности перед балкой слева от станицы, затянутые сизой дымной пеленой, смещались, двигались, заметно меняли свои очертания от какого-то густого и медленного шевеления там серых и желтоватых квадратов, как бы совсем не опасных, слитых в огромную тень на снегу, освещенном мутным во мгле солнцем, вставшим над горизонтом утренней степи.
Кузнецов понял, что это танки, однако еще со всей остротой не ощущая новой опасности после только что пережитого налета «юнкерсов» и не веря в эту опасность.
Острота опасности пришла в следующую секунду: сквозь обволакивающую пепельную мглу в затемненных низинах внезапно глухо накатило дрожащим низким гулом, вибрацией множества моторов, и яснее выступили очертания этих квадратов, этой огромной, плотно слитой тени, соединенной в косо вытянутый треугольник, основание которого уходило за станицу, за гребень высоты.
Кузнецов увидел, как тяжко и тупо покачивались передние машины, как лохматые вихри снега стремительно обматывались, крутились вокруг гусениц боковых машин, выбрасывающих искры из выхлопных труб.
— К орудиям! — крикнул Кузнецов тем голосом отчаянно звенящей команды, который ему самому показался непреклонно страшным, чужим, неумолимым для себя и других. — К бою!..
Везде из ровиков вынырнули, зашевелились над брустверами головы. Выхватывая панораму из-за пазухи, первым выкарабкался на огневую позицию младший сержант Чубариков; длинная шея вытянута, выпуклые глаза с опасением оглядывали небо за рекой, где оставшиеся «юнкерсы» еще обстреливали из пулеметов тыловые дороги в степи.
— К бою!..
И, выталкиваемые этой командой из ровиков, стали бросаться к орудиям солдаты, механически срывали чехлы с казенников, раскрывали в нишах ящики со снарядами; спотыкаясь о комья земли, заброшенные на огневые бомбежкой, тащили ящики поближе к раздвинутым станинам.
Младший сержант Чубариков, сдернув рукавицы, быстрыми пальцами вставлял в гнездо панораму, торопя взглядом возившийся со снарядами расчет, и старательно-торопливо начал протирать наводчик Евстигнеев резиновый наглазник прицела, хотя в этом сейчас никакой не было надобности.
— Товарищ лейтенант, фугасные готовить? — крикнул кто-то из ниши запыхавшимся голосом. — Пригодятся? А? Фугасные?
— Быстрей, быстрей! — торопил Кузнецов, незаметно для себя ударяя перчаткой о перчатку так, что больно было ладоням. — Отставить фугасные! Готовить бронебойные! Только бронебойные!..»
Это уже по-толстовски. То же свободное дыхание размашистой и одновременно плотно сбитой фразы. С читателем заговорил тот же русский офицер, но уже другого поколения и о другой Отечественной войне.
Иногда длинные периоды кажутся излишне длинными и даже утомительными. Не хватает дыхания осилить фразу в один прием. Но потом ничего, привыкаешь. Автор словно дает понять, что война — это не бег на короткие дистанции, что дистанция этого изнуряющего бега затяжная и она бесконечно велика. Бежать так бежать. И финал неизвестен.
Схватка была свирепой. Когда стрельба утихла, когда батарея выполнила приказ и немецкие танки были остановлены, от взвода лейтенанта Кузнецова осталось одно орудие при неполном расчете, с семью снарядами, которые удалось отыскать на огневой второго орудия, раздавленного немецким танком.
Но схватка продолжается и внутри батареи: лейтенанты Кузнецов и Дроздовский. Дроздовский мечтает стать героем, героем признанным, харизматичным. В какой-то момент на его стороне и устав, и обстоятельства. Но война — категория сложная. Не всегда она вмещается в уставы. Победителем в этой схватке выходит лейтенант Кузнецов. Настоящий герой он. Он сливается с батарейцами. И в бою, и в землянке всегда рядом ними. И в то же время остается командиром, приказы которого выполняются его подчиненными и потому, что они отданы, и потому, что они выполнимы.
Роман завершен Бондаревым в 1969 году, в свет вышел в 1970-м. В литературе это сразу стало событием. Отрывки печатались в периодике, в еженедельниках, в журналах, в газетах. Критика откликнулась множеством рецензий. Не все они были положительными. Но в целом читатель принял новый роман признанного мастера военной прозы благожелательно.
Почти сразу же романом заинтересовался кинематограф. Опыт работы с киношниками у Бондарева уже был. По роману «Тишина» поставлен одноименный фильм. Экранизирована повесть «Последние залпы». В те годы режиссеры, как правило, бережно относились к сюжетной канве и тексту экранизируемых произведений писателей. Может, поэтому и фильмы удавались. В таких же, бережных, обстоятельствах экранизированы и романы Юрия Бондарева. Не менялись названия, режиссерами не привносилось слишком много своего (я так вижу), не деформировались до неузнаваемости сюжетные линии. Автор, как правило, участвовал в написании сценария. Это были действительно экранизации, которые теперь делать разучились. В 1963 году Бондарева даже приняли в Союз кинематографистов СССР.
Кинематографу Бондарев отдал, можно сказать, часть своей жизни. В 1960-е годы даже состоял в руководстве только что учрежденного на «Мосфильме» 6-го творческого объединения писателей и киноработников. Через его руки прошло множество сценариев, написанных либо по мотивам повестей, романов и рассказам, либо самими писателями. Много писал и он сам, и не только по произведениям, писал и оригинальные сценарии. Правда, не все они стали кинолентами. Привечал на киностудии и своих литинститутских друзей. Всегда рядом был Бакланов. Бондарев сделал немало для того, чтобы повесть Бакланова «Пядь земли» стала кинофильмом.
Художественный фильм «Горячий снег» вышел на экраны в 1972 году. Зрители и читатели сразу признали, что он, пожалуй, равнозначен роману. Кроме известных актеров, которые играли блестяще, погружая зрителя в атмосферу войны, артиллерийского боя с немецкими танками и сложных коллизий между главными героями, в фильме звучит великолепная мелодия Альфреда Шнитке, написанная специально для него. Этот вальсок, жизнеутверждающий, но все же с трагическими нотками, на протяжении всей киноленты то вздыхает полной грудью, то звучит приглушенно, вторым и даже третьим планом, то затихает совсем. Не зря его очень часто исполняют по просьбе слушателей различные радиостанции и к 9 мая, и в очередную годовщину Сталинградской битвы.
Примерно в это же время Бондарев работал над сценарием многосерийного фильма-эпопеи «Освобождение». Сценарий для этой многоплановой ленты писала целая группа. Бондарев был одним из сценаристов. За эту работу он получил в 1972 году Ленинскую премию. А несколько лет спустя — Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых — за сценарий к фильму «Горячий снег».
Страна знала и любила его как писателя, как романиста, но вот премии Бондарев получал по ведомству кино…
Роман «Горячий снег» в 2013 году включен в список «100 книг», рекомендованных Министерством образования и науки РФ для самостоятельного чтения школьникам старших классов.
5
После «Горячего снега» в 1975 году вышел роман «Берег».
Мне кажется, что «Берег» прочитала вся страна. Новый роман с продолжением шел в журналах, в том числе и в «Огоньке», с прекрасными иллюстрациями на целые полосы. Это был год 30-летия Великой Победы. «Берег» читался с жадностью. «Лейтенанты» уже пробили путь к читательскому сердцу и уму, и «суровая правда солдат» в романах, повестях и стихотворениях стала частью культуры большой страны. Следом за книгами шел кинематограф. Параллельно — живопись. Высота была взята.
«Берег». Трудно сказать определенно, о чем больше эта новая книга Бондарева, о войне или о любви. В нем есть и то, и другое. И то, и другое трагично. Даже время не притупляет остроты произошедшей трагедии. Весна 45-го. Последние бои. Встреча советского офицера-артиллериста Никитина и немецкой девушки Эммы, внезапно вспыхнувшая любовь.
Весьма точно и птлно сказал о новом романе собрат-фронтовик Василь Быков: «Берег» — произведение сложное по своему построению, главы о современной действительности чередуются в нем с обширными ретроспекциями, изображающими последние дни войны, но весь этот, казалось бы, разнородный и разностркутурный материал подчинен общей идее и мастерски сплетен в неразрывное повествование о людях войны и мира, образы которых выписаны с удивительным мастерством по глубине и точности их психологии, без малейшей попытки сгладить какие бы то ни было шероховатости их характеров или трудности их взаимоотношений. Прежде всего, это разные люди — юный и остро чувствующий лейтенант Никитин и столь же прекрасный в своем молодом ригоризме лейтенант Княжко, властный и импульсивный комбат Гранатуров и совершенно новый характер в военной литературе — командир орудия сержант Меженин, натура сложная и в то же время примитивная своим грубо замаскированным животным эгоизмом. Конфликт между ним и Никитиным, их роковое столкновение после гибели лейтенанта Княжко при всей их конкретности носят расширительный, почти символический характер. В нравственном отношении это две противоположные натуры, возможность добропорядочного существования которых в условиях, когда исчезла недавно еще объединявшая их цель совместной борьбы против общего врага, стала весьма проблематичной. Но автор не идеализирует и Никитина, изображая во всей противоречивой сложности характер молодого человека, вдруг шагнувшего из войны на непростой рубеж мира и вдобавок захваченного более чем затруднительным по тому времени, неожиданно вспыхнувшим чувством к немецкой девушке Эмме. Все это написано с истинно художническим вдохновением. Трудная, исполненная драматизма история этой несостоявшейся любви привела к неожиданной, как и разлука, их встрече в современном Гамбурге, не многое, однако, прояснив в их отношениях и многое усложнив — ведь минуло три десятка долгих, слишком по-разному прожитых ими лет, в течение которых все переменилось в мире и так мало осталось от их юной любви».
Режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов в 1983 году закончили съемки одноименного художественного фильма. Фильм получился хорошим. Добросовестная и яркая игра актеров. Все близко к тексту. Лейтенанты Никитин и Княжко точь-в-точь такие же, как у Бондарева в романе.
Работа в кино и дальше успешно продолжалась.
6
В эти годы Бондарев в буквальном смысле купался в лучах славы. Многочисленные издания и переиздания книг. Экранизации. Вышло более десяти фильмов и сериалов по его повестям и рассказам. Участие в написании сценариев. Депутат Верховного Совета СССР. Член редколлегии многих «толстых» литературных журналов. Председатель Союза писателей России. Герой Социалистического Труда с вручением Золотой Звезды и ордена Ленина (второго). Выход в издательстве «Молодая гвардия» собрания сочинений в четырех томах. Переезд в новую четырехкомнатную квартиру на Ломоносовском проспекте, 19. Высокие должности в Союзе писателей России и СССР.
В какой-то момент должности и лавры начали кружить голову. Стали отдаляться друзья, в том числе и фронтовики. Виктор Астафьев рассказывал об одном эпизоде. Известно, что Константин Воробьев жил трудно, нуждался. Астафьев и Воробьев встретились на очередном писательском съезде, обнялись, разговорились. «В этот раз, — вспоминал Астафьев, — Костя был особенно убит, жаловался мне откровенно… Вижу, неподалеку с кем-то разговаривает Юрий Бондарев, изящно одетый, хорошо причесанный, с опять же умело завязанным галстуком и уверенным видом. Я и ляпни Косте: «Ты ж с Бондаревым знаком. Так обратись к нему, он сейчас в фаворе, секретарь, в сферы вхож…» — «Знаешь что, — как-то разом освирепев, рыкнул Костя, — пошел на х… этот литературный барин! Я с голоду подохну, но к нему не пойду!..» И от меня ушел стремительно и только уж потом где-то мы сидели в компании в гостиничной каюте, попивали водчонку, подсел ко мне и умело, да, видно, и привычно отчуждение, возникшее меж нами, снял, но о Бондареве мы с тех пор с ним уже не разговаривали…»
Вот так теряют друзей.
Рубежом его славы стал июнь 1988 года — XIX Всесоюзная партийная конференция. За той конференцией, как за перевалом, последовал провал. А тогда писатель Юрий Бондарев, ее делегат, представитель народа, смело встает и говорит следующее:
«Нам нет смысла разрушать старый мир до основания, нам не нужно вытаптывать просо, которое кто-то сеял, поливая поле своим потом, нам не надо при могучей помощи современных бульдозеров разрушать фундамент еще не построенного дворца, забыв о главной цели — о перепланировке этажей.
Нам нет нужды строить библейскую Вавилонскую башню для того, чтобы разрушить ее или, вернее, увидеть ее в саморазрушении, как несостоявшееся братство не понявших друг друга людей. Нам не нужно, чтобы мы, разрушая свое прошлое, тем самым добивали бы свое будущее.
Мы против того, чтобы наш разум стал подвалом сознания, а самомнения — страстью. Человеку противопоказано быть подопытным кроликом, смиренно лежащим под лабораторным скальпелем истории. Мы, начав перестройку, хотим, чтобы нам открылась еще непознанная прелесть природы, всего мира, событий, вещей, и хотим спасти народную культуру любой нации от несправедливого суда.
Мы против того, чтобы наше общество стало толпой одиноких людей, добровольным узником коммерческой потребительской ловушки…»
Не принимая и резко критикуя губительный курс горбачевских реформ, он сравнивал перестройку с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка…
Он резко осудил огульную критику советского прошлого и всего советского, критику, зачастую несправедливую и даже грязную, основанную на подложных «документах» и «свидетельствах».
Сейчас невозможно представить таких депутатов!
Всего этого ему не забыли. Новой власти не нужны были такие упорные и бескомпромиссные правдорубы. Впрочем, такие никакой власти не нужны… Некоторых из них власть начала приручать и приручила. Различными способами. Пытались приручить и Бондарева. В 1994 году вышел указ о награждении Бондарева орденом Дружбы народов. Награждение было приурочено к 70-летию со дня рождения писателя. Вручать орден должен был президент РФ Борис Ельцин. Принять награду Бондарев отказался. В телеграмме на имя президента среди немногих слов он написал, что «это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны». Страна превращалась в руины, и на руинах великой державы, за которую он и его боевые товарищи на фронтах Великой Отечественной войны проливали кровь, принимать какие-либо почести, тем более из рук разрушителей, писатель не счел для себя возможным. Честь была дороже, выше ордена.
В те годы Бондарев продолжал быть членом редколлегии многих «толстых» литературных журналов — «Нашего современника», «Нашего наследия», «Роман-газеты», «Кубани». Из состава редколлегии «Нашего современника» вышел в 1979 году по причине несогласия с публикацией в журнале романа Александра Солженицына «Октябрь Шестнадцатого».
Некоторое время активно выступал в средствах массовой информации как противник проводимых реформ. Он видел: страну разрушают, растаскивают, разворовывают и при этом еще и охаивают, в угоду «новым» веяниям деформируют, оплевывают ее историю, принижают и замалчивают ее героев. На телевидение его вскоре приглашать не перестали. Новым хозяевам телевизионных каналов его гражданская позиция бойца и патриота оказалась чужой и даже враждебной. Отказали и в публикациях резких статей крупные газеты. Бондарев ушел от активной общественной деятельности и целиком погрузился в творчество. Силы еще были.
После романов «Выбор» (1981), «Игра» (1985), «Искушение» (1992) вышли книги «Непротивление» (1996), «Бермудский треугольник» (1999), «Без милосердия» (2004). О них уже почти не говорили. Литературу повсеместно начала вытеснять политика. Треп безответственных и легковесных. Вранье и откровенная ложь. Страну разваливали. Ее добивали, дробили. Шахтерскими касками, ложью, потоком грязи продажных СМИ. Советская империя рушилась вместе с Берлинской стеной и внутренними границами СССР. Одно за другим закрывались издательства. Вкусы читающей публики были извращены. Критики и публицисты затихли и так же тихо разошлись по пиар — и медиа-группам для обслуживания депутатов, политиков и чиновников. Героями новой литературы стали куртизанки и пьяные солдаты…
Собрание сочинений в восьми томах, объявленное издательством «Голос» в 1993 году, не состоялось. Вышло только два первых тома. 1 том: «Батальона просят огня»; «Последние залпы»; рассказы. 2 том: «Горячий снег»; рассказы. Издательство рухнуло, восьмитомник не состоялся. До этого был двухтомник (1977), четырехтомник (издательство «Молодая гвардия», 1973–1977), шеститомник (1984–1986).
Уже в новом веке, в 2013 году издательство «Книжный клуб «КниговеК» выпустило новое собрание — 6 томов, куда вошли все романы, повести, а также рассказы и миниатюры из цикла «Мгновения».
7
Из-под Сталинграда минометчик Бондарев попал в госпиталь. На Мышковой он получил полный букет: ранение, контузию, обморожение. По излечении — тогда долго в госпиталях не держали — был направлен на Воронежский фронт, в 23-ю стрелковую дивизию. Командовал орудийным расчетом. Форсировал Днепр, участвовал в освобождении Киева. В бою в районе Житомира снова был ранен.
До заграничного похода Красной армии имел две боевых медали «За отвагу». Первую — за подавление трех огневых точек, уничтожение автомашины, противотанковой пушки и двадцати солдат и офицеров противника. Вторую — за уничтожение танка противника и отражение контратаки немецкой пехоты в районе Каменец-Подольского.
После очередного ранения и пребывания в госпитале получил направление в 121-ю Краснознаменную Рыльско-Киевскую стрелковую дивизию. Снова воевал в артиллерии.
В 1944 году вступил в ВКП(б). В октябре того же 1944 года был направлен в Чкаловское зенитно-артиллерийское училище. Именно там, в училище, он начал писать. Уже всерьез, уже втайне предполагая себя в литературе. Потому что было что сказать. Груз той полузапретной правды, которую взвалила на него война и память о погибших товарищах, надо было разгружать.
После окончания учебы в декабре 1945 года демобилизовался из армии. По заключению врачей, последствия ранения не позволяли младшему лейтенанту Бондареву продолжать службу в РККА. Расформировывались артиллерийские дивизии и полки. Шло тотальное сокращение армии. В отставку отправляли генералов и полковников, а уж младшего лейтенанта…
Приехал в Москву. Там уже проживала семья, вернувшаяся из эвакуации. Какое-то время, не решаясь подойти к Литинституту, учился на курсах шоферов, потом на подготовительном отделении Московского авиационно-технологического института.
Первый рассказ появился еще в студенческий период, в 1949 году в журнале «Смена». Рассказ назывался «В пути».
Литинститут он окончил в 1951 году. В тот же год его приняли в Союз писателей СССР, но — кандидатом. Рекомендацию дал Паустовский. Кандидатскую карточку получил по журнальным публикациям. Тогда книгу было выпустить непросто. Рецензии, редакционное заключение, потом, если все положительно, около года надо было простоять в тематическом плане издательства, и только потом… Первая книга Бондарева вышла в московском отделении писательского издательства «Советский писатель» в 1953 году. Это был сборник рассказов «На большой реке». Потом были другие небольшие книжки. Лишь в 1956 году Бондарев получил заветную книжечку члена Союза писателей СССР. В те годы в Союз писателей обычно принимали сразу, тем более, фронтовиков. Через кандидатский испытательный срок пропускали в редких случаях, и обычно этот срок исчислялся годом. А тут целых пять лет…
Федор Гладков советовал своим студентам: вливайтесь в жизнь, оставьте войну, так вам будет намного легче, и книги пойдут быстрее, и в журналах станут привечать охотнее… Бондарев и его институтский друг Бакланов действительно в какой-то момент ринулись в современность, пытаясь задушить в себе поток памяти. Бондарев писал о шахтерском труде, о любви…
Но война, пережитое в окопах, бурлило в нем, и в 1956 году вышла повесть «Юность командиров». С нее-то все, по большому счету, и началось.
Некоторое время Бондарев работал в «Литературной газете». Главредом был С.С. Смирнов. Бондарев руководил ведущим отделом литературы. Какое-то время, еще находясь под вольнолюбивым хмельком Литинститута, придерживался либеральных взглядов. В отделе рядом с ним работали Булат Окуджава, будущий эмигрант и главный редактор парижского журнала «Континент» Владимир Максимов, будущий главный редактор «Нового мира» Игорь Виноградов, Бенедикт Сарнов, Борис Балтер, Лев Кривенко. Всем им Бондарев покровительствовал, обо всех, как мог, заботился. Пока сам не вынужден был уйти из состава редакции, отчасти по причине своего либеральничания.
Но главной причиной ухода стало то, что надо было работать над рукописью нового романа, а все силы и свободное время поглощала «Литературка», которая в те годы выходила к читателю три раза в неделю. С ума сойдешь!
Своему другу и фронтовику Константину Воробьеву в сентябре 1959 года Бондарев писал: «Заела газета. Приезжаю домой поздно (на дачу), пока подзакусишь — глядь, привезли газетные полосы за неделю (планируем номера на неделю) — и садись читай от строчки до строчки. Вымотался и устал…»
Спустя несколько дней: «Газета меня съедает, берет много времени, отрывает от стола <…>. Скоро уйду в свободные члены редколлегии, буду ходить в редакцию раз в неделю».
В те дни он работал над романом «Тишина». Роман был тоже шагом если не назад, то в сторону от темы войны. Прорвало позже. Снова понесло к «Батальонам…», к «Последним залпам».
Возможно, роман «Тишина», повесть «Двое» были написаны в память об отце. В 1949 году Василия Васильевича Бондарева арестовали, обвиняли по 58-й статье УК РСФСР. Отец вернулся лишь в 1954 году. Сцена ареста отца главного героя романа самая, пожалуй, сильная в «Тишине».
8
Некоторое время Бондарев состоял в ПЕН-центре. В 1989 году сделал заявление и вышел из этой организации по причине «нравственного несогласия по отношению к литературе, искусству, истории и общечеловеческим ценностям» с большинством учредителей и членов этого центра.
В марте 2014 года подписал обращение Союза писателей России к Федеральному Собранию и Президенту РФ В.В. Путину в поддержку действий России в отношении Крыма и Украины.
Всю жизнь Бондарев прожил с женой Валентиной Никитичной. В 1952 году у них родилась дочь Елена. Сейчас живет в Москве, преподает английский язык. Младшая дочь Екатерина родилась в 1960 году. Художник.
Юрий Васильевич Бондарев умер 29 марта 2019 года. Последний лейтенант русской литературы советского периода ушел тихо, во сне. Похоронен на Троекуровском кладбище.
В год 100-летия со дня рождения писатели в своих малозаметных средствах массовой информациях и на страничках в интернете воздали должное советскому и русскому классику. Встрепенулись и читатели, оставшиеся верными любви к бондаревскому глубокому и честному слову. Госчиновники застенчиво промолчали, как воды в рот набрали.
Книги Юрия Васильевича Бондарева по-прежнему издаются. Читателей у него не убывает.
Публикации
Батальоны просят огня. Повести. — М.: Современник, 1984.
Освобождение. Сценарий. — М.: Искусство, 1985.
Берег. Роман. — М.: Советская Россия, 1986.
Берег. Выбор. Игра. Романы. — М.: Советский писатель, 1988.
Три повести. — М.: Военизат, 1989.
Тишина. — Омск: Омское книжное издательство, 1990.
Тишина. Сборник. — М.: Советский писатель, 1991.
Собрание сочинений в 8 т. Т. 1,2. — М.: Голос, 1993.
Выбор. Роман. — М.: Вече, 2013.
Берег. Роман. — М.: Вече, 2014.
Батальоны просят огня. Повесть. — М.: Вече, 2018.
Награды
Герой Социалистического Труда (1984).
Орден «Знак Почета» (1967).
Два ордена Ленина (1971, 1984).
Орден Трудового Красного Знамени (1974).
Орден Октябрьской Революции (1981).
Орден Отечественной войны I-й степени;
Две медали «За отвагу» (1943, 1944).
Медаль «За оборону Сталинграда» (1943).
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
Ленинская премия в области литературы за сценарий к киноэпопее «Освобождение» (1972).
Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых за сценарий к художественному фильму «Горячий снег» (1975).
Государственная премия СССР в области литературы за роман «Берег» (1977).
Государственная премия СССР в области литературы за роман «Выбор» (1983).
Государственная премия РФ им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (2014).
Международная премия им. М.А. Шолохова в области литературы и искусства (1995).
Большая литературная премия России (2012).
Литературная премия «Ясная Поляна» (2013).
1 Георгий Пантелеймонович Макогоненко (1912–1987) — литературовед, критик. Профессор ЛГУ. Член Союза писателей СССР. Участник Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн. Муж Ольги Берггольц (1943–1962). Член редколлегии книжной серии «Библиотека поэта».
2 Теперь это в Барятинском районе Калужской области. На Зайцевой Горе в 1941–43 года шли ожесточённые бои. Сейчас действует музей боевой славы. Проводятся Вахты Памяти поисковых отрядов, приезжающих сюда со всей страны.
Сергей Егорович Михеенков родился в деревне Воронцово Куйбышевского района Калужской области. Окончил Калужский государственный педагогический институт, Высшие литературные курсы. Служил в рядах Советской Армии. Публиковался в журналах «Подъём», «Москва», «Наш современник», «Юность», «Сура», «Аргамак». Автор многих книг прозы и исторической документалистики, вышедших в издательствах «Вече», «ЭКСМО», «Молодая гвардия», «Центрполиграф». Биограф маршалов Г.К. Жукова, И.С. Конева, К.К. Рокоссовского, певицы Лидии Руслановой. Живет в Тарусе.







