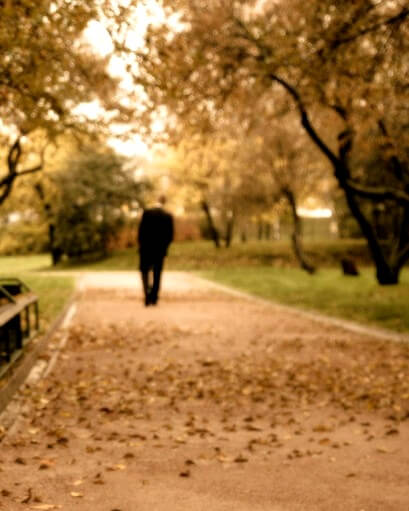
Срок расставанья
- 04.12.2020
НА СКИТАХ
Два дня свободы вдали от житейских забот и людской суеты; два дня на воде, в лодке, на берегу реки с удочками и другими снастями — тихий праздник, который выпадает нечасто. Сегодня он, наконец, пришел, этот праздник.
Все было готово: одежда, харчи, снасти — все по своим местам в лодке разложено; веревочные чалки отвязаны. Лишь отпихнись багром и включай двигатель.
Последняя минута перед отходом, когда в голове пробегает: «…машину закрыл… судовые документы на месте… телефон здесь…» Облегченный выдох: можно отходить.
И в этот самый момент с высокого берега от подъехавшей машины донесся звучный прерывистый сигнал, а за ним крик:
— Ти-хон! Стой, Тихон! Не отходи!
От машины, с крутого берега, скатился к воде и прогромыхал по трапу и железному понтону давний приятель-водолаз со спасательной станции.
— Еле успел… — вытер он вспотевший лоб. — Выручай, Тихон.
— Чего стряслось?
— Возьми с собой свояка. Пускай порыбалит.
— Какого еще свояка? Зачем?
— Моего. Наташкин брат родный. Приехал. И сразу: «Хочу порыбалить…» А мне когда? Я всю неделю дежурю. За себя и за Костю. Ему операцию сделали. Возьми, Христа ради. Байда у тебя большая. Он — мужик спокойный. Не будет мешать. Возьми… И Наташка просит.
Тихон молчал. Он плавал всегда один. Чтобы никакой гульбы ли, болтовни. Об этом все знали.
— Тиша… Я прошу тебя. Он из Питера приехал. На три дня всего. Наташка просит. Будь другом. Уважь.
Тихон вздыхал. Не терпел он чужих ли, своих на рыбалке. Только сам, в покое и своей воле.
— Ну, прошу тебя, Тихон… Возьми его. У него свои удочки и харчи. Он не помешает.
Кого другого Тихон и слушать бы не стал, тем более отвечать. Багром бы отпихнулся и поплыл. А ты кукарекай. Но здесь дело иное: давний приятель, за лодкой приглядывает; и жёны в больнице вместе работают. Как отказать…
У воды, возле трапа, не поднимаясь на причальный понтон, понурившись, стоял человек с зачехленными удочками и рюкзаком. Тихон поглядел на него и спросил:
— А это не профессор?
— Он самый.
— Ладно, пусть грузится, и отпихни нас. А то еще кого-нибудь черт принесет.
Поплыли. Неторопко уходила от берега всем рыбакам известная, ныне редкостная, старинная байда, которую по-другому не назовешь. Не легкая лодка-«дюралька» с подвесным мотором и не скоростной новомодный катер — игрушка людей богатых, а пусть невеликое, но речное судно с прочным корпусом и брезентовым высоким укрывом от кормы до носа, надежным двигателем в корме, штурвалом, ветровым стеклом, мягкими сиденьями; а еще — обеденный стол, газовая плита, рундуки для отдыха. Одним словом — речное судно, а не какая-нибудь тарахтелка.
Выйдя на середину реки, на фарватер, Тихон прибавил ходу и, оглянувшись, сказал своему незваному гостю:
— Устраивайся, располагайся. Идти будем долго. Можешь чайку попить. Чайник еще горячий. Сахар, печенье в шкафчике.
Сказал, вроде признав и приветив человека: в школе с ним когда-то учились, в разных классах, но все знали «профессора», который вечно с книжками таскался, порою читал на ходу, спотыкаясь. Наташкин брат, теперь и вправду вроде какой-то профессор.
Тихон приветил незваного гостя и тут же о нем забыл, потому что важнее иное: первый в этом году выход на воду, которого он так долго ждал.
Просторна река в половодье. Высокий обрывистый берег она из года в год подмывает и рушит быстрым теченьем, волной. На низком, луговом берегу ничто не мешает разливу, которого взглядом не окинешь. Уже ни проток, ни малых ериков, бочажин, озер, лишь вода и вода. Щетинятся затопленные желтые камыши и багряные тальники; старые вербы да белокорые осокори стоят по колено в тихой воде. Всё вокруг дышит прохладной свежестью, всё в отвычку, словно пьянит, навевая сладкую дрему, когда уже ничего вроде не видишь, не слышишь, но внимаешь всему: клику чаек, тяжелому маху низко пролетающих цапель, далекому, от холмов Задонья, призывно-печальному голосу рыжеперой казары: «Ого-о, ого-о…»
Для нового человека, городского тем более, все вокруг было внове и в удивленье. Он переходил от борта к борту, дивился воде, небу, птицам, светлой зелени берегов.
Хозяин же судна, давно, с малых лет в этом мире обвыкший, словно дремал за штурвалом. Было легко и покойно: мотор помаленьку ворчит и ворчит; подпевая ему, по скулам судна плещет волна; день погожий — чего еще надо… Плыви и плыви.
Так и плыли. Так и доплыли до места, которое у рыбаков называлось Скиты: крутой поворот Дона, обрывистый берег, место от людского жилья далекое и напрочь отрезанное бездорожьем. Когда-то здесь староверы-отшельники спасались: сначала от мира, потом от властей. В советское время на Скитах летом и зимой рыбачила колхозная бригада.
Нынче все кануло: и староверы, и колхозы. Сомкнулось над Скитами глухое безлюдье. Лишь воды донские все так же текли и текли к морю, бушуя по весне, широко разливаясь, но скоро усмирялись в берегах прежних.
Нынче вода стояла еще высоко. Причалили и привязали байду к подмытому обрыву, оплетенному корневищами старых верб.
Место было удобное: плоское подножье холмов, поросшее кустами шиповника да боярки, и огромное грушевое дерево — от стародавнего житья.
— Чухаться нам некогда, — сказал Тихон своему компаньону, поближе разглядывая его, хотя угадывать детское во взрослом человеке — дело пустое.
— У тебя все есть? Снасти, наживка, подкормка?
— Да, да… Мне все дали: червяков, опарышей, кукурузу…
— Вот и хорошо, — постановил Тихон. — Кидай с байды и с берега. Тут свал крутой, коряг вроде не было. Захочешь есть — в шкафчике яйца, колбаса, хлеб. Плитка, чайник, сковорода… Все понял?
— Да, да, спасибо.
— Действуй, — скомандовал Тихон. — А я подался… — выдохнул он облегченно: слава богу, мужик не приставучий.
Через короткий срок Тихон уже шлепал веслами на лодочке надувной, малой, уходя от берега высокого к луговому, к разливам.
Там, в затопленном вешней водой лесистом займище, он пробыл до позднего вечера: ловил красноперок, плотву на устье невеликой речки Карпихи; попытал линей возле камышовой гущины; два вентеря поставил среди верб да осокорей. Здесь по весне, на теплой воде гулялись сомы, из года в год, не меняя привычных мест.
К своему судну, к ночевью он возвращался поздним вечером.
Солнце давно село. Догорал малиновый закат. Синие облака стояли недвижно. Задонские холмы быстро темнели. В спокойной донской воде отражался весь мир: малиновый закат, синие облака, зеленоватое небо и черные холмы Задонья, которые тянулись к луговому берегу. Когда его достанут, придет ночь.
Причалив к байде, Тихон окликнул:
— А где у нас сторож?!
— Я здесь… — донесся голос сверху, с обрыва.
— В засаде сидишь?
— Уху варю!
— Уха из петуха? Или из колбасы? — удивился Тихон.
— Окуневая… Сейчас будет готова.
С берега в волглом вечернем воздухе и впрямь растекался приманчивый дух поспевающей ухи.
Тихон поднялся на берег. От обрыва поодаль, возле грушевого дерева, теплился небольшой костерок. Над ним в казанке доспевало пахучее варево.
— С таким напарником жить можно, — похвалил Тихон.
Походный стол накрыли быстро. На железном блюде исходили паром полосатые окуни, пузатенькие, икряные, а возле них — домашнее: зеленый лучок, редиска, сало да пирожки. Выпили по чарке и принялись за еду.
— Где окуней нахватал?
— Чуть пониже, мысок… Быстро десяток надергал. Потом как отрезало.
— Бывает. А чего еще наловил?
— Пробовал там да здесь… Не клюет. Потом ходил да глядел.
— Ты, видно, не рыбак, а ходок? — посмеялся Тихон.
— Наверное… — согласился напарник и оправдался. — Хорошо здесь…
Обычные слова людей городских. Тихон им верил. Недаром он сюда, на Скиты, приезжал год за годом: сначала с дедом, с отцом, а теперь — один.
Просторная донская вода, береговые курганы, могучее грушевое дерево, которое нынче вздымалось над землей белым облаком весеннего цвета.
Это было в ночи. А нынешний ясный день на Скитах гостю городскому, сродненному с тесными стенами квартиры, работы, машины, — недолгий день нынешний показался каким-то чудом.
Терпкий дух молодой зелени, сладкая прель старой листвы, колючие терны в белом цвету, жаворонки, вещая кукушка. Плеск воды, свежесть ее, высокие белые облака, пронизанные солнцем, подножье цветущей груши, где так удобно сидеть, прислонившись к теплому корью и погружаясь в сладкую дрему, в которой кукушка отсчитывает не грядущие торопливые годы, но неспешную поступь дня, нынешние его мгновенья. Об этом разве расскажешь?.. Лишь вздохнешь, повторив:
— Хорошо… — А вспомнив, добавил: — Чья-то могилка, возле кургана.
— Бакенщик, — объяснил Тихон. — Это еще в старые времена, может, помнишь, были на реке бакены, они судовой ход обозначали. С керосиновыми фонарями. Их вечером бакенщики зажигали, а утром тушили. На лодках плавали. Я пацаном был, с дедом к этому бакенщику приезжал. Он прямо в горБ жил, в пещере. От монахов, наверное, осталась. С бабкой они жили. Долго. Тут его и схоронили. Так он велел. — И, подумав, пояснил: — Не схотел уходить. Остался.
В далекой памяти Тихона осталась земляная хата, прямо в горе. Дверь дощатая, комната, печка — окошек не было.
— Остался… — задумчиво повторил вослед хозяину гость.
В его памяти поселковое детство — это пыльные улицы, вечный ветер, школа, комната барака, в котором жили с матерью и сестрой, библиотека, книги. «Профессором» его звали в насмешку и освобождали от уроков физкультуры. А потом был Питер, учеба и работа — все та же учеба, но уже вечная, и ошибка — как неизбежность. Теперь за нее расплата. Потому и нынешний день — словно подарок. И ночь — земная, короткая, всего лишь до утра. А могилка старого бакенщика — она…
— Могилка осталась. И больше ничего и никогда, — заключил он со вздохом, поднимая глаза к потемневшему небу.
Тихон занимался чаем, не больно слушая, а тем более понимая напарника. Он оживил огонь, котелок подвесил и что-то стал вспоминать о госте своем из давних-предавних лет. Но кроме «профессора» ничего не вспомнил.
Неторопливо чаевничали. Ночная тишь порой прерывалась далеким хохотом сов. Да где-то на прибрежном холме тревожилась казара: «О-го-го-о… О-го-го-о…» Смолкнет и снова зовет: «О-го-го…»
Гость городской всякий раз оборачивался на ее зов.
— Казара… — объяснил Тихон. — Лень свою нору копать, в барсучью, видно, забралась, на готовое. А хозяин ее тревожит.
Сгустилась ночь, обрезая округу и оставляя на земле невеликий круг зыбкого живого света, костра угасающего.
— Сплю-у-у… Сплю-у-у… — раздалось совсем рядом.
— Это нам приказ, — засмеялся Тихон. — Пора… Пойдем укладываться. А то и спать некогда будет.
— А здесь нельзя? — спросил гость. — Под деревом? У меня спальник хороший.
— Не надо. Земля холодная. Была бы солома на подстилку, или чакана нарезать… И еноты подойдут, потревожат, лиса… Они любят проверять, где чего плохо лежит. На байде спокойнее.
Остатки съестного забрали, костер залили. И тут же ночное небо из края в край прорезали две падучих звезды. Яркие, хвостатые, они пролетели и погасли где-то в луговых разливах.
— Метеоры… — сказал гость.
— Они здесь часто бывают, — объяснил Тихон. — Особенно осенью. Даже какие-то черные камни люди находили. А когда-то, — вспомнил он, — я молодым еще был, у нас тут стояла большая звезда с весны и до самой зимы. Какая-то аж страшная, с хвостами. Старые люди говорили, что это к войне или к голоду.
— Комета Болла, — объяснил гость. — Девяносто седьмой год. Показала себя и ушла.
— Куда ушла?
— Далеко. Но вернется. Через пять тысяч лет.
— Точно подсчитали… — удивился Тихон.
— Если точно, то через четыре тысячи триста девяносто.
— Нескоро… — задумчиво произнес Тихон.
— Нескоро… — подтвердил гость. — Но вернется. В отличие от нас. Вот мы уйдем и не вернемся. Никогда. Это тоже точно.
Тихон лишь вздохнул: пять тысяч лет… Может, брешут? Но все равно это как-то… даже страшновато. Ведь и правда, если она вернется, тут уж никого не будет. Все нынешние перемрут. И внуки, и правнуки. Какой у людей век: родился, женился, детей вырастил и готовься к могиле. А тут пять тысяч лет. Ума не приложишь.
Ночной отдых на судне был устроен по-домашнему: матрацы, подушки, теплые одеяла. И крыша над головой.
Перед тем как улечься, Тихон проверил, хорошо ли лодка привязана, чтобы за ночь куда-нибудь не уплыть по теченью. Такое бывало, особенно если подопьют мужики.
Он чалку проверил и увидел еще одну падающую звезду. Она была яркой, летела долго, широкой дугой, куда-то на край земли. Снова подумалось о большой звезде, о комете, которая когда-то давно здесь была, над этим холмом. Она стояла, светила ярко, но льдисто, как зрак небесный, и потому страшноватый. И два серебристых хвоста ли, крыла вздымались над ней, готовые к полету. Отец еще был нестарым, дед — живой. Они говорили: «Это — к беде». Но звезда ушла, слава богу, никого не тронув.
А теперь отца уже нет, а деда Митрия — вовсе. Нет их и никогда не будет. А эта звезда где-то бродит и бродит. Потом вернется. Но, может, и не вернется. Эти ученые, они тоже… Им верить… Но если и вернется, что проку? К той поре все наши косточки погниют, и могилки сотрутся. Пять тысяч лет… Немыслимое дело.
В постели он не скоро уснул. Слышал плеск воды где-то рядом. Может быть, сом гуляет. Надо попытать завтра, «поквочить». Может, возьмется.
Сова-сплюшка порой сообщала округе: «Сплю-у-у… Сплю-у-у…»
«Спишь — значит, молчи», — укорил ее Тихон в полусне.
Зов далекой утки-казары звучал все реже, печальней: «О-го-го-о… О-го-го-о…»
Но выспался Тихон хорошо. Поднявшись на белой заре, он приготовил себе сытный завтрак, чтобы на весь день заправиться. Гостя он будить не стал, надувную лодку спустил на воду и поплыл через Дон к берегу луговому.
Утренняя заря догнала его в затопленном лесистом займище: розовое небо, розовая тишь на воде, ни волны, ни ряби. Лишь в затопленных сухих камышах шевеленье да плеск: у карасей начались весенние свадьбы. На гладкой воде лихой окунек гоняет мальву, которая веером разлетается от него. Но эта мелочь Тихону была неинтересна. Его занимало иное.
Вчера линей не удалось поймать. Даже поклевки не было. Хотя камышовая тихая заводь для них самое место. Но тогда был полудень. А ныне — зорька. Надо бы поймать линьков. Для матери. Она их любит. В сметане жаренных. А дочке — раков. Пару раколовок поставить и проверять потихоньку. Хотя бы десяток-другой привезти. Девчушку порадовать.
Еще недавно этих раков было несчетно. Ребятишки ныряли и ловили их руками в тине и в норах у берега. Тут же возле воды варили. А если для приезжих гостей, то малым бредешком пройдешь десяток метров в озерцах да заливах. Ведро ли, два наберешь, мелких отбрасывая. Про них никто и не думал, про этих раков. А нынче их начисто вывели тралами. Сначала на моторных лодках. Вдоль берега все выдерет трал: раков, ракушки, донные травы. Потом пришли китайские раколовки под названьем «трамваи»: сетчатые круглые да квадратные ловушки до десяти метров длиной с приманкой внутри. И этих «трамваев» у ловца не один, не два, а страшно сказать — до тысячи. Как тут рак уцелеет… Работы нет, людям жить надо. А хорошего рака скупщик берет по тысяче рублей за килограмм. Вот и выдрали напрочь. Теперь лишь детвору побаловать. Если повезет.
Но первым делом Тихон вентеря проверил. Сомов не было. Невеликая щучка туда забралась, неизвестно зачем, да несколько карасей.
А в камышовой заводи, сыпанув пару горстей приманки, Тихон удочки закинул и приготовился ждать. Линь — рыба мудрая: не сразу наживку берет и не взаглот, как иные, а осторожно, посасывая. Тут терпение нужно.
Утро разгоралось быстро. Солнце вставало над водой и лесом, оживляя округу. Пестрые дятлы выбивали звучную дробь. Веселые болтуны скворцы вразнобой голосили, посверкивая вороненым пером. Негромко пощелкивал соловей. Другие малые птахи вразнобой заливались. Словом, весенний утренний хор.
Клева не было. Но уплывать, уходить к иному не хотелось. Тихая вода, молодая листва, словно полог, в прогалах которого — синее небо. А все это — покой и покой, которого он так долго ждал, целую зиму.
В обыденной жизни Тихон не любил суеты, лишних разговоров. Работал автомехаником и не терпел, когда ему под руку хозяин или шофер машины услужливо пытались подсказать ли, помочь. В таких случаях он со вздохом говорил: «Как бы тебя культурно, без обиды куда-нибудь послать… Иди в домино поиграй, в дежурку. Нужен будешь — позову». К этому уже привыкли, порою за глаза именуя его бирюком ли, «кулугуром». Последнее было правдой. Семья его старой веры держалась. Мать и теперь в свою староверскую церковь ходила. И жена — по большим праздникам.
А вот бирюком он уж точно не был: в семье, в родне и в соседстве. Но живут мужики по-всякому: одни водочкой балуются, другие по бабам шастают, в интернете пропадают. Тихон любил бывать на воде, на Дону. Но не компанией, а в одиночку. Выбраться на рыбалку ему удавалось нечасто. Во-первых, работа: от нее не сбежишь. И дома дела не кончаются, особенно в летнюю пору: огород, сад, дом — мужские заботы.
Лишь в отпуске он уплывал на несколько дней, с ночевкой. Или «отгулы» брал на работе.
Такое случалось нечасто. Но круглый год каждую пятницу Тихон приезжал свое судно проведать. Приезжал, наводил порядок, сидел возле воды, чай заваривал, вспоминал прошлое, порою совсем далекое, когда мальчонкой с отцом или дедом рыбачили на тяжелой деревянной лодке. Из еловых досок ее смастерили сами. В свою пору, по теплу, в годы прежние Тихон привозил сына, чтобы тот искупался, с удочкой посидел. Но это прошло: вырос сын, он — далеко.
Каждую неделю на час ли, другой Тихон выбирался к Дону, мечтая, как соберется, отойдет от берега и поплывет на Скиты.
И вот теперь он здесь: в тишине и покое — все, как думалось, как мечталось долгой зимой.
Нарядный носатенький зимородок замер над водой, на низкой ветке, ожидая добычи. Могучий орлан-белохвост на засохшей маковке тополя сторожит свое; в далеком небе — нежный переклик желтокрылых щуров; стая лебедей низко пролетела, их не видно, но слышен звон крыльев.
Дремота ли, теплый покой, нетревоженый.
— О-го-го-о-о… Ого-го-о-о…
Далекий зов казары напомнил о вчерашнем: нечаянный гость, какие-то слова его, не больно понятные. Но от них — тревога.
Падучие звезды, старый бакенщик, могила его, комета, которая была и ушла, но она вернется, когда уже нас не будет. Все это не больно понятно.
Так же река будет течь, тихий Дон, такие же весенние разливы, свежая пахучая зелень, птичьи голоса. Дедушка Митрий в свою пору остерегал его: «Ты не галди, ты гляди и слухай…»
Вспомнилась покойная соседка — баба Ксеня: большая, сутулая от долгой тяжелой работы, всю жизнь грузчицей была в порту. Жила она рядом, и в старости, в последние годы, стала какой-то чудной. Бывало, замрет посреди двора, подняв глаза к небу, а потом скажет: «Облака — как перушки розовые, светят… — и добавит со вздохом: — Умру и не увижу». По весне чуть не плачет: «Вишенка наша так ныне цветет, прямо невестушка… Умру и не увижу». Возле осенней багряной груши: «Грушинка — чисто золотая. Так листушки горят… — С тем же присловьем: — …и не увижу».
Молодые над ней посмеивались, не больно понимая. Те, кто постарше, жалели. Теперь вот Тихон вспомнил ее. Вроде еще не старый, жить да жить, но придет и его пора.
Первую поклевку Тихон прозевал. Крупный линь уже утопил поплавок и даже удилище согнул, уходя в спасительные камыши. Тихон успел подсечь его и стал выводить. Поплавок второй удочки начал подрагивать, шевелиться. Первого линя Тихон вывел из камышей к лодке и поднял. Тяжелая золотистая рыбина в густой слизи отправилась в садок. Вторую удочку сторожить недолго пришлось: поплавок, не ныряя, начал уходить в сторону камышей. Второй линек был поменьше, но тоже хороший.
Утренний клев пошел. Не больно спорый, с ленивой поклевкой, как это у линей бывает; но раз за разом поднимал Тихон увесистых золотистых красавцев, радуя душу. И простые сетчатые раколовки с пахучей приманкой показывали себя не какой-то мелочью, а настоящими клешнястыми раками.
Лини, раки да вчерашний улов рыбаку завзятому, тем более по весне, конечно, в радость. Но душа просила серьезного. Для сазана еще не пришла пора, судак уже свое показал по льду да воде холодной. А вот сома попытать на «квок» самое время. И потому, отсидев на разливах у камышей утреннюю зорьку, Тихон начал искать сома по старому руслу речки Карпихи.
Это русло — глубокую падину — он знал еще от деда Митрия. Там из года в год зимовали сомы. Теперь по вешней воде сомы разошлись, но какой-нибудь мог еще бродить. Прошлой весной Тихон поймал сома на пятьдесят килограммов. Дед поднимал пятипудовых. На легкой надувной лодочке такого не возьмешь. Но пробовать надо, чтобы душу потешить.
Все снасти были под рукой: тонкий, но прочный шнур-«урез» на катушке, большой кованый крючок, а насадка свежая: рачьи шейки да рыбья мякоть, чтобы ее дух по воде пошел. И старинный, дедовский «квок» — деревянная ложка, которой, сплывая, бьют по воде. Никто толком не знает, что означает этот глухой звук: «Ку-ок, ку-ок…» То ли голос лягушки, до которых сом большой охотник, то ли самки призыв. Но, услышав его, сом поднимается и берет наживу.
Только сомов на Дону все меньше. А умельцы-охотники «квочить» вовсе наперечет. В этом деле терпение нужно и опыт. «Квок» да «квок» — и сплывай потихоньку. «Квок да квок». Час за часом, бороздя воду. И чаще всего без добычи. Поднимешь одного за весну — это удача. Да еще кто кого, если попадется хороший сом. Он тебя потаскает, измотает, а потом еще и уйдет. Полоротых может и в воду сдернуть. А легкую лодку перевернуть. Так что охотников «квочить» в поселке теперь не осталось. Кроме Тихона.
Вот и нынче, считай, полдня он провел, на сома охотясь: ку-ок да ку-ок… — потихонечку, — ку-ок да ку-ок. Не торопясь, вроде лениво, подгребаясь веслами, он прошел старое русло речки Карпихи, словно видя его сквозь толщу воды: первое бучило и второе — деда Митрия незабытая наука: от устья, где старый займищный тополь, к Лысому кургану. Один раз прошел и другой. А потом поплыл стороной горной, вдоль высокого берега, так же неторопливо, уже не угребаясь, а притабанивая, тормозя веслами для спокойного сплава.
Он проплыл мимо байды своей, а гостя с удочками на берегу не увидел. То ли не проснулся еще «профессор» городской, то ли впрямь не рыбак, а ходок.
Тихон проплавал попусту, считай, полдня. Сом себя не показал, даже не «полюбопытничал», как порою бывает, когда он потрется или хвостом наживку ударит.
Но разве в сомятине дело. Спокойная река, которая уже отыграла свое, зелень холмов, дух пресной воды и парящей весенней земли. Об этом думалось и мечталось долгую зиму. Теперь исполнилось.
А рыба… Что рыба? Плотва да красноперки — в засол, линьки — на жареху, дочке — раки. Да еще в вентерях щучки да караси. Так что хватит всем.
А время — час заполуденный — начинает подсказывать: «пора, брат, пора» собираться и плыть. К поселку, к дому.
На судне и рядом, на берегу, городского гостя по-прежнему не было. А он, этот гость городской, и удочек нынче не трогал: поздно проснулся, пил чай, а потом бродил по округе, поднялся на высокий Лысый курган.
Долго стоял там, оглядывая, как казалось ему, полмира: огромное коромысло могучей реки и вовсе немереные разливы воды и береговой зелени. Синяя глубь и светлое мелководье в слепящих солнечных бликах. Тени облаков, скользящие по земле, то приглушая, то осветляя зелень и синеву.
Все это он будто видел когда-то: может быть, в раннем детстве, а вернее, лишь в сладком сне. Теперь вот — не сон: под ногами земная твердь, которая, кажется, вот-вот поплывет, чтобы поднять его все выше и выше над миром земным, таким ослепительным, но таким непрочным, который, быть может, уже завтра для него оборвется. Навсегда. И уже без него продолжат неторопливый свой бег речные воды; и вовсе неспешный ход — высокие облака. Все тот же земной простор будет по весне просыпаться и расцветать, долго зреть в жарком лете и уходить в зимний покой, набираясь сил перед новым и новым рожденьем. Не боясь, не считая, не ведая долгих лет и веков своих.
Почуяв усталость, он спустился вниз и снова, как и во дне вчерашнем, устроился на просторном подножии грушевого дерева, прислонившись спиной к нагретому корью, и замер, сливаясь с ним.
Здесь и нашел его Тихон, с усмешкой спросив:
— Не клюет?
— Не клюет, — согласился гость, не сразу приходя в себя.
— Тогда давай собираться. Пора.
— Жалко… — посетовал гость. — Хорошо здесь… Остаться, что ли… Пещеру выкопать, — посмеялся он.
Тихон понял его, оглядывая скупую, еще не поверившую весне землю.
— А вот скоро травы поднимутся, — пообещал он, — зацветут горошек розовый да сиреневый, шалфей, чабрец, всякие кашки, донник белый да желтый… Гормя все будет гореть… Праздник Троица. С дочкой когда-то сюда приезжал, малая была. Шалашик она слепила. Говорит, здесь буду жить. Еле увезли, с плачем.
— Устами младенца… Истина… — усмехнулся со вздохом гость. — И через паузу: — А сюда на машине нельзя проехать?
— Дороги нет, — сухо ответил Тихон. — И слава богу, иначе бы давно стоптали.
А в голове у него вдруг мелькнуло: не на свою ли беду он привез сюда этого человека? Городские, они нынче везде лезут: на вездеходах, на катерах, даже на вертолетах. Не дай бог, доберутся. Тогда Скитам конец.
Эта мысль недолго гнездилась в его голове. В поселок приплыли и распрощались. Нечаянный гость убыл к своим делам и заботам. Память о нем стерлась.
Тем более что зимняя спячка в поселке кончилась. Наступила пора кипучая: огороды, сады, «дачи», на которых не отдых, а труд.
У Тихона родовое подворье, считай, в полгектара. Еще с той тяжкой поры, послевоенной, когда выживали на картошке да тыквах. Теперь иное: виноградник, сад, теплицы и грядка за грядкой, им счету нет. Сажай, поливай, пропалывай да окучивай. Все по привычке, для жизни, чтобы осенью просторный погреб забить. Да кое-что — на продажу.
Днем в гараже тоже не стало продыху. Поселковый народ свои машинешки из сараев на волю пустил. После зимней спячки. Поломки пошли. Валом валят, и всем надо быстрее.
Про рыбалку на время пришлось забыть. Одно утешенье: «Вот дела переделаем и — на Скиты».
Но иногда, чаще порою вечерней, когда всей семьей, после дел огородных, садовых, ужинали во дворе под навесом, а потом сумерничали, отдыхая… Старая мать сидела, дочка; жена неслышно прибирала со стола.
В такую вот пору иногда всплывало что-то из того, уже далекого вечера на Скитах.
Звезда падучая пролетит, дочка скажет:
— А я желание загадала.
— Либо жениха хорошего? — догадывалась бабушка.
Смеялись.
А Тихону приходила на ум звезда ли, комета на Скитах.
Старая мать сидела уставшая за день, жаловалась:
— Чего-то я вовсе из могуты выбилась.
Сноха ворчала:
— Говорю тебе: сиди и сиди. А то без тебя не управимся… Врач не велел нагибаться. Ноги-то снова опухли, в чирики не лезут.
Тихон лишь вздыхал, зная, что старых людей не переделаешь. Так и помрет возле грядки, с мотыгой в руках.
Он понимал, что мать скоро уйдет. Было жалко ее. В такие минуты какая-то пронзительная, щемящая душу любовь, словно бы детская, просыпалась: «Мама, мама…» Она ведь уйдет навсегда. Уже понемногу уходит: порою глядит как-то странно, словно видит что-то очень далекое — ушедшее или неизбежное, которое впереди, но которого она не боится, потому что верит, всякий день повторяя: «Пресвятая Дева-Богородица, радость возвести и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный…»
О своей смерти Тихон прежде вовсе не думал. Жил да жил. А вот теперь… Порою на дочку, вот как сейчас, глядел: «Как она выросла… И какая хорошая…» Забытая нежность, которой не было места в обычные дни и часы нынешней жизни, она — из прошлого, из тех давних лет, когда малое дитя топотило по этим дорожкам. Это было. Но понемногу остывало, пряталось в глубине души. Нынче снова порой оживало.
А всему виной тот вечер на Скитах, падучие звезды и вовсе давней памяти хвостатая комета, которая показала себя и ушла. И придет через тысячи лет уже на пустую землю.
Не просил для себя Тихон долгой жизни, но хотелось увидеть свою дочь в зрелой поре, матерью. И детей ее хотел увидеть, своих внуков, родную кровь. Он уже сейчас их жалел и любил. И хотел жить с ними рядом, опекая их детскую немочь до взрослой поры. А потом пусть сами живут.
Летняя ночь после долгого жаркого дня навевала дремоту. В дом уходить не хотелось. Тихим веем подступала прохлада. Как всегда, в ночи раскрывались и сладко пахли петуньи и алые зорьки.
Старая мать первая поднялась, кряхтя и охая.
— Помоги… — подсказал дочери Тихон.
И вот они пошли по дорожке к дому, стар и млад.
— Петунья… Простой цветок… — послышался голос матери. — А до чего духовитый. Я и в домах его чую.
— А я розы люблю, — ответила внучка.
— Пошли и мы… — сказала жена. — Давай закрывать все. Мне завтра надо пораньше, к семи. Отвезешь?
— А чего так?
— Наталью заменить. Она же водителей проверяет.
— А она чего?
— Брата поехала хоронить.
— Какого брата?
— Он один у нее был. Старший брат. В Питере.
Тихон понял и больше ни о чем не стал спрашивать. Как да чего… Все тут яснее ясного. Жил человек и умер. Вот и все.
СРОК РАССТАВАНЬЯ
«Старый да малый» — назвал я когда-то свои записки о часах и днях, проведенных, прожитых рядом с внуком Митей.
Вот он — совсем кроха. Говорить, конечно, еще не умеет. Но ему улыбнешься — он в ответ так славно, так счастливо разулыбается: рот — до ушей, глазенки сияют счастьем. Он не устает отвечать на улыбку улыбкой. Снова и снова: засмеешься, и он в ответ беззубо смеется и радуется. Такая у нас была игра, такой разговор людей близких. Старый да малый понимали друг друга без слов.
Он любил эту близость: руки родных людей. На руках ему было лучше. Казалось бы, кроватка мягкая, удобная, с погремушками на весу — там хорошо и покойно. А на руках, как ни старайся, не больно ловко: в руке моей левой, в ладони, в горсти — головка его, рука правая держит тельце. По-моему, неудобно. Но в кроватке или на просторном диване, конечно же мягком, он кричит. На руки возьмешь — успокоился: лежит, помаргивая, потом вроде заснул. Но положишь, сразу — крик. Он не плачет, слез-то нет. Он просто кричит. Это — речь его, которую я понимаю. Беру малыша на руки, улыбаюсь. В ответ мне — сияние глаз, улыбка.
Потом он начал ползать. Сначала по-пластунски. На пол опустишь, на четвереньки. Но он тут же ложится и ползет. Не «червяком», а именно по-пластунски: глазами зыркает, голова — вправо и влево, оглядывая, отыскивая нужный путь.
А скоро на четвереньках пошел, звучно шлепая по полу ладошками. Потом встал на нетвердые еще ножонки. И пошел.
Мы жили под разными крышами, но виделись каждый день. Он радовался, встречая меня. Наверное, еще и потому, что мой приход всегда означал долгие прогулки на воле. Сначала осторожные, с поддержкой и с отдыхом на руках.
Но скоро он даже побежал, падая, но отстраняя помощь; сам поднимался, старательно очищал испачканные землей ладошки и снова — бегом.
Мы понимали друг друга, даже когда годовалый Митя был еще не больно речист. «А-дя-дя…» — означало хорошее настроение. Более сложное — «Ке-е…» Вот идет он с любимой игрушкой — связкой ключей — и время от времени останавливается, сознательно роняет или, нагибаясь, кладет эту связку на землю. Постоит, поглядит сверху вниз, потом поднимет ключи и продолжит путь. Через десять шагов та же картина: остановился, положил на землю.
Пытаюсь понять, в чем дело, вопрошая:
— Зачем это: бросаешь, поднимаешь с пылью и грязью?
— Ке! — отвечает Митя. — Ке-е…
— Ясно, — вздыхаю я. — «Ке» значит «ке».
Пошли дальше, по двору и по жизни, не совсем понимая, но разумея, что действия малыша осознанные и называются «Ке».
Потом он пошел твердо и побежал, подгоняя меня: «Бигом, деда, бигом…» Он торопился, спешил к новым и новым дням счастливой жизни.
— Пиехали! — кричал он. — Огоёд! Лить, лить, пиливать!
Поехали. Вольная воля на долгий день: огородная зелень, садовые деревья в цвету ли, в плодах, малая живность.
— Какая босяя паутина… Ог’ёмная… — всякий раз изумляется Митя, заглядывая в гнездовье паука.
Возле муравьиного селенья, в подножье абрикосины, можно присесть на корточки.
— Муявей… Такой сийный…
И снова: «бигом, бигом…» Потому что нужно все осмотреть и, конечно, отпробовать то, что зреет и спеет. И не забыть о работе мужской.
— Бить-бить, калятить… Лемотировать.
Ремонт — дело серьезное. Все — под рукой: молоток, гвозди, щипцы, гаечные ключи и какой-нибудь старый кран или вентиль — мужские заботы.
И снова «бигом, бигом». До той поры, пока не уснет здесь же, на воле, на кровати-раскладушке. Но и во сне он порой бормочет: «Бигом-бигом… Пиливать…»
А назавтра — иное.
— Пиехали… Одонь — одонь! Камень кидать!
Это — к воде, на Дон. Бросать гладкие камешки. Пугать лягушек. Бродить по теплому мелководью. Пускать бумажные кораблики, которые уплывают, белея в синих волнах; вслух гадать, куда они плывут… В город Ростов, в Азовское море или просто «даеко-даеко».
Потом приходит пора учиться плавать, нырять. Зимою — вначале просто прозрачный скользкий лед, а потом — коньки. Дальние пробеги: от заводского затона до моста.
Все это было за годом год, вроде бы долго. Но прошло. И уходит все дальше, как уплывали наши бумажные кораблики в далекое море.
Митя и теперь порой вспоминает «малиновый рай» на подворье или сладкие ягоды старой вишни, что росла возле погреба. Или велосипедные набеги в Тютинный переулок, где пять деревьев сладкой шелковицы-тютины: черной, розовой, белой. Когда возвращались оттуда, Митя, измазанный ягодным соком до ушей, кричал, проезжая мимо гурьбы ребятишек:
— Угадайте, где мы были?!
— Тютину ели!! — хором отвечала веселая ребятня.
Все это было. Но особенно памятен мне один из дней поздней теплой осени. Малый безлюдный поселок возле большой воды, просторная задичавшая роща с редкими тропинками. Листопад. Тишина.
Туда мы приехали с Митей и бродили долго. Там был покой и покой. Неслышные шаги по мягкой листве. Редкие птицы, любопытная, но осторожная белочка. Светлая остывшая вода. Волной зализанный хрусткий береговой песок. Последний теплоход, с которым мы до весны попрощались, и он нам ответил долгим гудком.
Мы говорили мало.
— А лягушек нет. Уже спят.
— В тину зарылись. Там тепло.
— Красивый лист…
— Кленовый. А это — тополевый.
Когда пришла пора уезжать, Митя вдруг сказал мне, подняв голову:
— Давай здесь останемся жить.
Эти слова трехлетнего малыша я помню и теперь. Вспоминаю их, думаю, все более понимая, о чем так наивно, но искренне просил меня Митя. Детская душа его за короткий срок приняла тихий мир природы и сроднилась с ним, в нем так славно и так вольно дышать и жить, среди травы и листвы, под кротким осенним небом, возле светлой воды. Казалось — так мало. Но так много, на полный вдох. Более нечего и желать. Живи да живи… В теплом детстве.
Я это помню. А Митя давно забыл, обвыкаясь во взрослом мире. Теперь ему тринадцать лет. Малым не назовешь, хотя роста он пока невысокого, худенький. Но жилистый, крепкий паренек.
А я, как и прежде, старый. И даже еще старее на столько же лет. Близится срок расставанья, которое, по правде сказать, давно уже началось. Вроде бы незаметно, за шагом — шаг.
Из давнего времени помнится мне фраза одной не больно счастливой мамы:
— Какой был чудный ребенок, а выросло вон что…
Тогда я отнесся к ее словам и беде сочувственно; позднее стал понимать: не «выросло», а вырастили. Может быть, сами того не замечая.
Недавно услышал, как Митю укорила мама:
— Ты нормально можешь разговаривать? Чего ты все время орешь?
Услышал и рассмеялся, вспомнив давнее, когда маленький еще Митя как-то заявил родителям:
— Вы — орёлы.
— Орлы… ты хотел сказать, — загордившись, поправил его отец.
— Нет, орелы, — остудил его сын. — Потому что все время орете.
Еще одно, очень давнее. Родители, смеясь, рассказывали, как маленький Митя, просыпаясь поутру первым, топотил по квартире и громко взывал:
— Вставайте, ядители! Хватит спать! Поя мне кашу ваить! Мановую, исовую… Вставайте, ядители!
Нынче какой уже год проблема: поутру Митя есть не хочет.
Всякое помнится. Такое вот, смешноватое, в котором, если подумать, веселого мало. Помнится и вовсе горькое.
Однажды пришел я — Митя какой-то пасмурный, вроде бы не в себе. Что-то говорю, а внук меня будто не слышит. Потом спрашивает:
— Дедушка, а «идиот» ведь слово плохое?
— Конечно, дружок, плохое, — подтверждаю я. — Не надо его повторять.
— Дедушка, — подходит внук ближе… — А почему мама таким словом тебя назвала?
Большие детские глаза глядели на меня с недоумением и болью.
В своей еще недолгой жизни он усвоил твердо: плохие слова говорить нельзя. Он однажды меня укорил, когда, споткнувшись, я чертыхнулся:
— Ты зачем плохое слово сказал. Не надо плохие слова говорить.
Он уверял меня:
— Я с этим мальчиком не дружу. Он плохие слова говорит.
Так прочно все это уложилось в его детской головке, в душе. И вдруг теперь… И не просто плохое слово, но о человеке близком.
Он смотрел на меня, ждал ответа, которого у меня не было. Не мог же я его маму ругать, хотя она того стоила.
Я принялся как-то объяснять это маминой несдержанностью, расстройством, болезнью.
— Она про тебя так сказала… — повторил он, не принимая моих объяснений, а в широко раскрытых глазах — все то же недоуменье и боль.
Это — в глазах. А что там, в душе и в маленьком детском сердце? Всего ведь не выскажешь… Господи, господи…
Через какое-то время еще одна новость:
— Дедушка, а ведь можно и без папы жить?
— Как без папы? — не понял я.
Митя и сам, видно, не совсем еще это понимал и принимал, лишь повторяя услышанное:
— Миша ведь без отца живет? С одной мамой…
Соседский мальчик и вправду рос сиротой.
Поначалу я и сообразить не мог: откуда ему это в голову взбрело. Потом вспомнил и понял. Родители его недавно поругались. Теперь вот… Мамины речи. Так все просто.
— Милый мой, — обнял я и посадил рядом мальчонку. — Как же без папы? Ты что… Тебе же все завидуют, когда вы с папой вместе на стадионе в футбол играете и всех побеждаете. А кто тебя плавать учил? А кто тебя высоко подбрасывает, когда вы купаетесь? А как ты любишь на папиной шее ездить? А на рыбалке…
Я говорить спокойно не мог: горечь в душе и боль. Сам я рос сиротой и во времена сиротские. Отцов наших забрала война, раненья, болезни. Изо всего класса хорошо если у трех ли, четырех человек были отцы. Господи, как мы таким завидовали! И порой мечтали: «Был бы отец живой…» Но мечтанья греют недолго. А сиротская доля, она — до веку.
— А кто тебе уроки помогает делать?.. А с кем вы… А разве…
Я говорил и говорил. Внук не перечил мне, соглашаясь, потому что все было правдой.
Он соглашался. Но злое семя, конечно, осталось в его душе. До поры.
* * *
У совсем малого еще Мити, когда он только говорить начал, были два любимых слова: «Дластуй!» и «Писибо».
Первое он произносил энергично, протягивая для привета малую свою ладошку.
— Дластуй! — громко говорил он своим и чужим, знакомым и незнакомым. — Дластуй! — и улыбка во весь рот, и глазенки сияют. Сразу видно, что пожелание искреннее, от всей детской души. И отвечали ему, конечно, тоже с улыбкой:
— Здравствуй, милый, здравствуй!
Второе слово он произносил по-иному: негромко, протяжно и выразительно.
— Писи-и-бо… — и даже: — Босее писибо… — И в глазах тихая, искренняя благодарность.
Это всегда меня трогало. И, конечно, других людей.
В ответ на любую, даже малую помощь, какой-то подарок, гостинец или просто добрый привет:
— Писибо… Босее писибо.
Всем и всем — людям, яблоне, кусту смородины, морковной грядке. И, конечно, Тютинному переулку за щедрое угощенье.
У меня даже невеликий рассказ есть с названием «Босее писибо». Читатели его помнят и при случае повторяют с улыбкой: «Босее писибо».
Но все это с годами ушло. Теперь лишь вспоминаю, когда порой на прогулке чей-то малыш еще еле топает или катит в коляске, но смотрит на меня, старого, и рукой машет, приветствуя, и рот у него до ушей от радости.
— Спасибо. Большое спасибо, — отвечаю я на привет.
Недавно малая девочка поздоровалась со мной, а мама ее принялась извиняться:
— Простите, она со всеми здоровается.
— Вот и хорошо, — ответил я. — Большое вам спасибо.
Одна просто извинилась, а другая мамаша принялась сыну вычитывать:
— Сколько раз тебе говорила: не здоровайся с чужими.
— Какие же мы — чужие, — вздыхаю я. — Под одним небом живем, на одной земле.
Но отвыкаем… Приходишь порой к своим. Привета не слышно.
— Чего не здороваетесь? — спрашиваю.
А тут и спрашивать не надо: телефон ли, компьютер, громкоголосый телевизор… Но бывает иное, о котором и говорить не хочется.
А может, и вправду, все мы — уже чужие?
— Одонь! Одонь! — кричал маленький Митя.
И мы ехали на Дон. На машине. Но чаще на моем велосипеде: я — в седле, малыш — на багажнике. Потом у него свой велосипед появился. Начались дальние пробеги. Порой — на скорость, а иной раз: «Не будем спешить, — предлагал Митя. — Будем ехать и беседовать». Были маршруты разные. Простые: кати да кати; а порой «опасные», как называл их Митя, через речку Гусиху, по шатким мосткам. А еще — далекие, через Дон, по глубоким балкам Грушевая, Красная, Хорошев курган, где много всего интересного: лисица ли, заяц, шумная стая куропаток, пересвист осторожных сусликов, норы да холмики подземных жителей, а еще — ржавые патроны, осколки снарядов и мин на дорожных размывах да осыпях — от давнишней войны.
Все это было… Теперь — иное. Конечно же — школа, долгие ее уроки. Но даже время свободное, субботнее да воскресное, и каникулы летние — уже для другого.
У меня, как прежде, походы пешие, велосипед, а для дальних дорог — машина. По привычке приглашаю внука заранее, с вечера.
— Поехали… Дон встал. Поглядим, позвеним.
Была у нас прежде такая забава: бросать камешки по первому гладкому льду; они далеко скользят и позванивают.
— Поехали… Травки пособираем на чай.
Или:
— На Черкасихе, у Щучьего прорана карасей люди ловят. Огрузились. Поехали… Тютина в переулке поспела…
На все ответ один:
— Нет, нет…
Причин много:
— Я спать буду. Высплюсь…
— Мы в футбол будем играть…
— Мне надо…
Или откровенное:
— Не хочу…
Но главного он не скажет. Главное развлечение — здесь: четыре телевизора, компьютер, планшет и, конечно же, мобильный телефон, в котором тот же Интернет, фото, игры и прочие удовольствия.
Прихожу, родителей нет. Из комнаты Митиной, затворенной, слышу отчаянный крик:
— Бей! Бей, придурок!.. — потом поспокойнее: — Вижу, вижу… — и снова: — Бей!
Это игра идет, компьютерная. Открываю дверь. Митя в наушниках, перед экраном, клавиатурой.
Не до меня ему, не до моих гостинцев: пирожков с морковкой да ягод.
— Потом, потом…
Все «потом»: и здравствуй, и спасибо. Понятно: разгар сражения.
Минуту-другую стою, смотрю на экран. Там бегут, прячутся, снова объявляются люди в военной форме, с оружием. В них стреляют, и они стреляют.
— Это у тебя еще долго? — спрашиваю.
— Полчаса… Бей! Придурок…
Играет он не один, а в команде. Его напарники, может быть, рядом в поселке, а может, в другом городе. Интернет. Паутина.
Постоял я, поглядел и со вздохом ушел. Знаю я эти «полчаса».
Отгонять его от компьютера бесполезно: только злить. Потому что он весь там, в нешуточном кровавом бою, где любая промашка — смерть. А он жаждет смерти врага. И победы.
А начиналось все с малого.
— Ему будет интересно, — постановила увлеченная «почтой» да «одноклассниками» и прочими радостями Интернета мама.
Сначала появилась «почта».
Задаю внуку вопрос:
— А с кем и о чем ты будешь переписываться?
— С кем захочу. Вот я сейчас… — подтвердил свои слова Митя, написав однокласснице: «У меня есть кот».
Тут же пришел ответ:
— Ну и что?
— Он много ест.
— Ну и что?
— Он любит спать.
На последнее сообщение ответа не последовало. Видно, неглупая девочка.
— Ну и что? — в свою очередь спросил я. — Зачем такая переписка?
— Может, я что-нибудь придумаю. Будут «лайки».
Ничего он, конечно, не придумал. Теперь эта почта — корзина мусора.
Потом появились игры. Простенькие: убил, промазал. Там были животные и люди. Но тогда я его сумел отговорить, убеждая:
— Зачем, дружок, убивать? Заяц, длинноухий, добрый. Ему ведь больно. Кровь… Рана… Он умирает. И люди… Такие, как я или ты… Зачем их убивать? Ты же паренек добрый. Давай что-нибудь другое придумаем, — предложил я ему и родителям.
Получилось. Митя меня обрадовал:
— Дедушка, я теперь не стреляю. Я строю. Скажи, что тебе надо построить.
— Построй мне дом на берегу реки или озера. Сможешь?
— Конечно. Смотри.
И он начинал строить. Хорошая была игра. На экране компьютера большой выбор материалов: дерево, кирпич, бетонные блоки.
— Подвал нужен? — спрашивает Митя.
— Неплохо бы…
— Сделаем.
На выбранной площадке появляется котлован. Потом начинается устройство фундамента, кладка стен. Полы настилаются.
— Может быть, пристроить веранду?
— Конечно. С видом на воду.
Все возможно на экране компьютера. Послушные клавиши с любой фантазией сладят. И вот уже вырастает дом на берегу реки. В комнатах расставляется мебель — все как положено: кровати, диваны, столы. А вокруг и рядом появляются клумбы с цветами, деревья, кусты. Словом, настоящий дом у реки. Моя мечта, неосуществимая.
Митя довольно долго компьютерным строительством занимался, забыв о «стрелялках». Значит, оставалось в душе доброе, детское, которое уходит не сразу. Но понемногу вымывается — взрослой чаще всего заботой.
Так было и здесь. Сначала в компьютере появились арсеналы оружия. А потом — военные игры со стрельбой и взрывами.
— Мне купили… Мне скачали… Мне разрешили…
И вот уже несется из Митиной комнаты:
— Бей! Бей, придурок! Мазила…
Наушники, клавиатура, экран с бегущими людьми в военной форме. Их надо убить. Всех убить. Чтобы одержать победу. А это непросто.
— Молодец! Завалил! Смотри, справа! Бей!
Пробую увещевать.
— Велосипед стоит. Паутиной зарос.
— Потом.
— Коньки роликовые заржавели.
— Не хочу.
— А гитара чего висит?
— Пускай.
— Мяч бы погонял во дворе.
— Потом.
Мяч он порой гоняет на стадионе. У них даже есть команда, которая ездит на турниры в город. Но, мне кажется, с большим удовольствием он играет здесь, в квартире, в другой комнате, у большого экрана со специальной приставкой, которая управляет всеми игроками обоих футбольных команд. А ты лишь направляй их и кричи:
— Мазила! Придурок!
— Молодец! Красавчик!
От своего ума или от моих разговоров родители что-то, но поняли. И теперь компьютерные бои со «стрелялками» позволены Мите лишь два раза в неделю, в субботу да воскресенье. Эти дни в календаре особо отмечены: имеет право. Только плотнее дверь закрывается в его комнату, чтобы не слышать воинственных воплей.
Но одни ли воскресные дни?..
Родители — на работе. От бабушки-наседки можно отмахнуться: «Нам ничего не задавали» — или: «Я уже все сделал… Иди, баба, иди…»
К тому же есть смартфон с интернетом, где тоже можно «повоевать», лежа на диване, или там же посмотреть что-то взрослое, завлекательное.
Недавно ехали мы на машине в Кисловодск. Путь долгий. Сначала Митя досыпал. А потом как вперился в свой телефон с наушниками, так до конца поездки не оторвался.
Пытались его отвлечь отец и я:
— Смотри, какой орел большой.
— Калмыцкий храм… Погляди…
— Лебеди на озере. Целая стая.
И в конце пути:
— Горы начинаются. Пять гор. Какие?
На все — никакого ответа. Тем более что добрая мама заступилась:
— Чего вы к нему пристали. Он никому не мешает.
И вправду ведь, не мешает.
Вспомнил давнее. Митя что-то нарисовал. Он прежде это любил. И получалось неплохо. Нарисовал, мне показал и побежал обрадовать маму, которая, как обычно, по телефону что-то горячо обсуждала. А тут Митя сунулся со своим рисунком и получил ответ жесткий: «Ты что, не видишь?! Я с человеком разговариваю!»
Нынче он никому не мешает. Не мешает по телефону всласть поболтать. И спокойно переходить от одного телевизора к другому. Там бывает кино интересное, жизненное, длинные серии. Или — вовсе с ума сойти! — настоящие измены, разводы, дележ имущества или наследства. И, конечно же, Интернет, куда зайдешь и не выйдешь.
Слава богу, никто не мешает. Надо лишь плотнее дверь закрыть в Митину комнату, чтобы не слышать обычного: «Бей, придурок!»
В квартире, где живет Митя с родителями, на стенах — его фотографии. Их немало. Везде он — приглядный, аккуратно причесанный, нарядно одетый. Не мальчик, а картинка. Их слишком много, этих портретов. «Уберите, — говорю я. — Чего вы устроили? Выставку родительской любви?» Что-то убрали, но, конечно, не все.
В моем жилье, в книжном шкафу, за стеклянными створками, среди других фотографий, есть два снимка еще малого Мити. Особенно притягивает и порой тревожит меня один из них. Два годика, наверное, малышу.
На узких плечиках — большая лобастая голова с нестрижеными косицами враскид. Нос — уточкой. Пухлая губенка. Словом, дитя — как дитя.
Но взгляд… Он — мягкий, но проникающий в душу. Синие глаза смотрят на меня чуть вприщур. И что-то в них есть, в этих глазах, вовсе не детское: не теплый привет и не радость жизни, но какое-то неясное вопрошение, которое мне трудно понять.
У меня в столе — целая пачка Митиных фотографий: парадных, озорных, забавных. Но изо всех, давно уже, я выбрал эту. Фотография, сделанная невзначай. Митя смотрит на меня и что-то видит далекое, которому быть ли — не быть.
Не нынешний ли час расставания чует он своим детским сердцем?
Порой, бросив взгляд на эту фотографию, я вспоминаю осенний день, который провели мы в тихом поселке, возле светлой воды. «Давай здесь останемся жить», — попросил тогда Митя…
И еще один случай, более поздний.
Мы часто ходили к Дону, к воде, дорогой прямой, мимо брошенного и разрушенного завода, пустые земли которого уже зарастали тополевником да колючим лохом. Здесь водились куропатки и даже фазаны. Порой мы слышали их хриплые голоса.
У самой воды высилось двухэтажное здание бывшей конторы завода с черными оконными и дверными проемами.
— Давай окна и двери поставим, — предложил мне однажды Митя. — И будем здесь жить. Никитку позовем, Ибрагима, Арькова, Головина, — перечислил он своих дворовых и детсадовских друзей. — Нам будет здесь хорошо… — пообещал он.
Теперь вот порою кажется мне, что тогда еще сердцем и чистой душой чуял малыш свою иную, взрослую пору и не очень стремился к ней.
— Давай здесь останемся… Нам будет хорошо…
Мы не остались там жить. И приходит час расставанья.
Конечно же, это — печаль немалая, долгая, когда не сразу поймешь и поверишь, что нет уже рядом души детской близкой, которая твоей стариковской сродни.
Но печалиться можно о многом и многом, особенно в годы преклонные, вспоминая детство, молодость, долгую жизнь, людей близких, любимых, но ушедших, с горечью понимая, что роднее уже никого на этом свете не будет.
И вот еще одно расставание с внуком Митей, который, слава Богу, жив и здоров, но уходит в свою взрослую жизнь, для меня уже не всегда и во всем понятную и даже чужую.
Но в памяти моей тоже, слава Богу, остаются часы и дни, когда рядом жили да были старый да малый — это развеяться уже не успеет за недолгий мне отмеренный срок. Потому что там было много всего: за часом час и за годом год. Вначале просто взгляд и беззубая улыбка — тут и слов не надо. Потом счастливая песнь:
— А-дя-дя-а-а… А-дя-дя-а!..
И строгое объяснение: «Ке! Ке-е…»
— Бигом, бигом, деда… — вперевалочку, падая, поднимаясь и снова спеша. — Лить-лить-пиливать.
— Одонь! Одонь! — это к светлой донской воде призыв, к бумажным корабликам, которые уплывают далеко-далеко.
А потом он и сам поплыл:
— Догоняй меня… Подбрось меня высоко… И еще раз! Ну, последний разочек!
После долго купания — обед и отдых. Но прежде заботы:
— Когда поспим, будем в футболь играть?
— Будем.
— А завтра опять поедем купаться?
— Поедем…
Вздох облегчения, глаза закрываются, но успевает сказать: «Хорошо, когда есть дедушка…»
Или в саду, под яблоней, спокойное, тихое:
— Сидим двоем… Смотлим обляка… Писибо.
И последнее, словно чувствуя близкое расставанье:
— Не забудь! Не забудь, дедушка!..
Теперь мы живем поодаль, видимся редко.
Недавно у меня заболела нога, и я ходил даже по квартире с костыликом. Еще от матери батожок остался и до срока без дела стоял, а теперь пригодился.
Приехал Митя. Мы поздоровались, а он на мой костылик глядит пристально. Потом улыбнулся, сказал:
— Это же наш дед Костыль…
— Он самый, — подтвердил я. — А еще кого помнишь?
— Дед Сундучник, дед Сарайник, дед Погребняк, Гаражник, — с той же улыбкой перечислил Митя. — Но дед Костыль — самый главный.
Он и вправду был самым главным, дед Костыль — добрый наш друг в домашних играх. Маленький Митя любил в прятки играть. В просторном доме, а теплой порой во дворе он прятался, а я искал его с подмогой вот этого деда Костыля — опытного следопыта.
— Дед Костыль, дед Костыль, — взывал я. — Куда же наш Митя спрятался? Помоги, пожалуйста. Не могу найти.
— Помогу. Я умею искать, — сиплым и грубым голосом отвечал дед Костыль.
Это было давно в нашем доме и на просторном дворе, где, кроме прочих, жили да были дед Костыль, дед Сарайник, дед Сундучник и дед Гаражник — таинственные, но вовсе не страшные, а добрые друзья. Обитали они в темном сарае, в огромном сундуке, в погребе, при встречах разговаривали с маленьким Митей, интересные истории о жизни своей рассказывали. Но дед Костыль — самый близкий.
И вот теперь через столько лет неожиданная встреча: потертый батожок и выросший, уже взрослый Митя, который осторожно потрогал рукой костылик и поднял на меня глаза; в них ожило далекое уплывшее детство: дни и годы, когда малыш так спешил: «Бигом, бигом, деда…» Во взрослый мир торопясь.
А теперь он вернулся туда, в детство свое, которое навсегда не уходит, оставаясь в душе, в глубине ее. Вот оно на моих глазах ожило, светит, говорит: «Не забыл…» Тихая улыбка и, кажется, вздох сожаленья.
Старый наш дом: двор зеленый, малиновый рай, цветущая смородина, тяжелые шмели, разноцветные легкие бабочки и стрекозы, тихий муравейник, тюльпаны по весне, заросли цветущей мальвы, Тютинный переулок…
Митя смотрит на меня. Во взгляде тепло от нечаянной встречи. А еще — кажется мне — там печаль об ушедшем и неясное вопрошение о прошлом ли, нынешнем, словно на давней фотографии совсем малого Мити, где глаза еще голубые, нос уточкой, губенки припухшие. И просьба неисполнимая: «Давай здесь останемся жить…»
Борис Петрович Екимов родился в 1938 году в городе Игарке. Окончил Высшие литературные курсы. Работал на заводе, учителем в школе. За свою многолетнюю писательскую деятельность создал более 200 произведений. Лауреат Государственной премии РФ, премий им. И.А. Бунина, им. А.И. Солженицына, Международной Платоновской премии. Член Союза писателей России. Живет в Волгограде.







