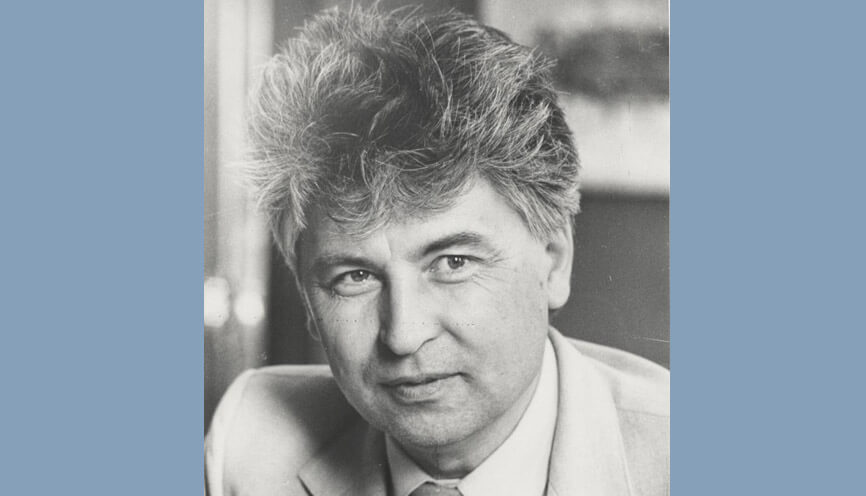«Есть ли в поле жив человек?»
- 04.08.2021
«Бога нет», — говорю я, проходя по коридору бывшего блока в Аушвице. Я иду и цепляюсь глазами, как за спасительный якорь, за глаза мёртвых, смотрящих со стен бывших блоков, отремонтированных — здесь уже давно экспозиция. Мне неизвестны их судьбы. Людей я этих лично знать никак не могу. Но всё иду и иду мимо рядов со снимками: люди, лица, глаза… Глаза… Нужно только видеть их глаза!
«Он есть», — тихо возражает немецкий пастор Дезелерс, почти тридцать лет живущий в Освенциме.
«Но люди же спрашивали: где ты, Боже?! Как ты мог…»
Он идёт и смотрит себе под ноги. Потом поднимает голову и говорит: «А Бог думал: как всё это допустили вы, люди?! Бог тоже страдает из-за нас… Быть может, Он плакал».
Мы стоим на разгрузочной платформе возле лагеря Аушвиц-II Биркенау. Плотный вязкий туман закрывает всё вокруг, стеклянный ветер пробирает до костей. Недалеко — Ворота смерти, в которые въезжали вагоны с обречёнными людьми. От платформы отходит дорога, по которой они шли к лагерю. Мы тоже идём по ней. Вот уже из плотной занавеси тумана выступают очертания ворот. Вдруг мы видим, как по полю с правой стороны движется большая колонна. Меня сковывает ужас, я трясу головой, чтобы отогнать это наваждение. Туман почти рассеивается, повисает клочьями на ограждении, и я вижу, что это еврейские дети — в белых свитшотах, с флагом Израиля. Их много, наверное, больше пятисот. Они медленно идут к воротам лагеря. Мне хочется повернуться и бежать отсюда. Ноги становятся ватными, леденеет от бессилия сознание… Я не хочу туда! И я там не буду никогда. Ведь такое больше никогда не повторится?! Завтра мы сядем в автобус и уедем, мы, свободные люди.
У нас будет «завтра». У этих, на стене барака, нет. Я не могу остановиться и читаю, читаю о тех, кто был вчера, а завтра у них не было. Их много, они строем идут мимо и даже пытаются мне улыбаться. «Не плачьте, мы же вас всех помним, мы знаем, как это — вспоминать о будущем. Мы придём к вам, простите, что так рано ушли…» Они скрываются за поворотом, только ветер гонит по выжженной земле какой-то клочок бумаги. Я его подбираю: «…самое живое в мире — вечность, и самое смертельное средь мира — жить». Эти слова женщины, перевернувшей мне душу, читаю на абсолютно пустом листке.
Она хотела убить Троцкого, потому что он преследовал эсэров. И всем об этом рассказывала. Её с трудом от этого отговорили. Ему она тоже об этом рассказала: они встретились в тридцать третьем году в Париже. И вот русская православная монахиня объяснила ему, что у неё было твёрдое намерение убить его. В ответ Троцкий спросил: «Мог бы я для вас что-нибудь сделать?» — «Конечно! Можете! Пожалуйста, оплатите этот счёт!» Троцкий с радостью согласился.
Принадлежала к русской аристократии. Обладая легко воспламеняющимся темпераментом, она вступила, довольно парадоксально по отношению к своему прошлому, на путь социализма, революционных действий и, в свою очередь, была соблазнена атеизмом. Как и многие русские верующие, она естественным образом перешла с марксистского пути к христианской вере. Была первой студенткой богословского факультета Санкт-Петербургского университета.
У неё был особый маршрут, отмеченный блужданием без гражданства. Неожиданно вышла замуж в возрасте восемнадцати лет за юриста Дмитрия Кузьмина-Караваева, сторонника социалистов-революционеров и атеиста. Родила дочь Гайану (Дочь Земли). Брак длился всего три года. Но они всегда оставались на связи, практически до самой её смерти.
Богемная жизнь ещё тлела в разразившемся вихре насилия. Порвавшая со своим аристократическим прошлым, она усердно посещала литературные салоны столицы разгромленной империи, публикуя свои первые произведения, которые сделали её известной и были высоко оценены на литературном уровне. Она влюбилась в поэта Александра Блока, которому писала оды, стихи и письма даже в эмиграции.
Девочка Лиза Пиленко, уговаривающая мать отпустить её в монастырь, внезапно замужняя дама Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, потом Е. Скобцова, Юрий Данилов, «Ю.Д.» и «Д. Юрьев», потом «ММ» и, наконец, мать Мария. Всё это один человек, одна личность. Одна жизнь. И одна Родина, которую не смогла вырвать из сердца даже эмиграция.
Она могла только вспоминать, а что ещё тогда оставалось. Заново переживать случившееся, хотя бы сделать попытку приблизиться к пониманию: как это могло произойти с этой её Родиной? И писала тексты-воспоминания: очерки «Последние римляне» (1924) и «При первых большевиках (Как я была городским головой)» (1925). В первом она ужасается своим предчувствиям-предвидениям катастрофы в дореволюционном Петербурге, во втором — словно с другого ракурса, отвлеченно повествует о событиях периода двоевластия и прихода к власти большевиков в Анапе в семнадцатом году. Мало того, что история её избрания городским головой сама по себе авантюрна, так она ж ещё пыталась спасти людей от расстрелов и культурные ценности от разграбления, отбивалась от большевиков, примкнув к правым эсерам, а потом деникинская разведка её обвинила в сотрудничестве с ними, и она с трудом смогла снять большинство обвинений во время судебного процесса, чудом избежав расстрела.
А тема революции, больная, кровоточащая, не покидала. В то же время она написала три большие исторические повести: «Равнина русская (Хроника наших дней)» (1924), «Клим Семенович Барынькин» (1925) и «Несколько правдивых жизнеописаний».
Спасаясь от большевистской революции, русские беженцы оставили на своём огромном континенте всё. Молодые, старые, обеспеченные, аристократы, бедные и безработные, они потеряли всё, они бежали часто с безумной — или почти пророческой — надеждой, что их статус без гражданства продлится недолго. Были учёные, врачи, необразованные и образованные люди. Были империалисты, надеявшиеся на возвращение царя, анархисты, коммунисты, социалисты, вольнодумцы.
Что делать? Думала она, как в первую очередь прокормить соплеменников почти без ресурсов? Нет. Елизавета Юрьевна с «нежным славянским реализмом» просто решила прийти на помощь самым бедным. Это было время, когда в Париже в бывшей усадьбе немецкого пастора был создан Свято-Сергиевский православный богословский институт. Появилось пространство, в котором ярко и динамично процветало, даром что в нищете тела, но не духа, богословское учение в соответствии с русскими православными традициями, жили плодотворные размышления, проходили уроки богословия для студентов и свободных слушателей. Елизавета тогда же знакомится с отцом Сергием Булгаковым, который берет её под своё духовное окормление, со многими членами духовенства и православными верующими. Париж стал колыбелью русского православия в изгнании.
В Париже и Франции впервые появилось много эмиграционных журналов, некоторые из них издавались долгое время (La Pensée Russe / Русская Мысль), что дало возможность писать, публиковать и читать лекции. Молодая женщина посвятила себя помощи нуждающимся, больным, алкоголикам и наркоманам, спасению всего мира, живущего в крайней нищете. Она пережила жестокий опыт потери дочери Насти, которая умерла в 1926 году. Это внезапно возродило в ней дух покаяния и желание жить более организованно.
Постепенно она влилась в структуры, рождённые в изгнании, такие как Русское студенческое христианское движение, которое продолжает свою деятельность и сегодня. С 1927 года она вела здесь миссионерскую деятельность, служа самым обездоленным. Этот путь позволил ей найти и выразить свои духовные поиски и разделить с единомышленниками важность веры.
Елизавета Юрьевна перешла к очень своеобразному монашеству. Было бы опасно, особенно в наши дни, рассматривать её как «нетипичную женскую личность со свободным электроном». Любой монашеский призыв абсолютно исключителен, потому что он превосходит чью-то волю или структуру, придавая церковной жизни той поместной церкви, в которой он воплощён, особую плотность.
Однажды, путешествуя в поезде с матерью Марией, митрополит Евлогий сказал ей, указывая через окно на леса и сельскую местность: «Вот ваш монастырь!» Она приняла постриг 16 марта 1932 года в церкви Свято-Сергиевского института в Париже. Елизавета стала, по проницательному выбору митрополита, матерью Марией (так её взяла под защиту святая Мария Египетская).
Мать Мария называла свою общественную деятельность монашеством в миру. Но не всеми такое служение было принято безоговорочно. Монахиня должна жить в монастыре! Должна молиться, бить поклоны, смиренно выполнять послушания. У матери Марии было на это собственное мнение, отличное от канонического. Она вообще отличалась самостоятельностью и твёрдым бесстрашным характером. Вспомнить только её труды на посту городского головы Анапы в разгар большевистского террора!
Пропасть между интеллигенцией и народом устранялась практически: хождением новой церковной интеллигенции в этот новый эмигрантский народ, чему и посвятила свою жизнь после монашеского пострига мать Мария. Мысль о судьбе России соединилась с мыслью о том, как помочь реальным бедолагам в их нищей эмигрантской судьбе. И именно это становится её богословской задачей. Вместо литургии она идёт на рынок за продуктами для своей дешёвой столовой, а потом стоит у плиты. С молитвой.
Уже в нацистском лагере, разделив в полной мере страдания с узницами Равенсбрюка, мать Мария просила тех, кто выживет, передать своей матери, владыке Евлогию и отцу Сергию (думая, что он ещё жив): «Моё состояние — это то, что у меня полная покорность к страданию и это то, что должно со мною быть, и что если я умру, в этом я вижу благословение свыше».
Оказалось, что она и её соратники довольно пристально следили за молодёжью в покинутой ими России, изучали все современные молодёжные течения. Зачем? Ответ весьма интересен: увидеть за этой «долбёжкой» политграмоты хотя бы крупицу жизни и возможности будущего. Даже за плотной тенью глумливой идеологии она пыталась обнаружить хоть какой-то просвет (как, собственно, делала это всю жизнь, находясь среди людей), задаваясь вопросом: может, «лучшая часть комсомола почувствует себя наследниками иных отцов и продолжит связь с иными традициями». Её статья «Есть ли в поле жив человек?» пронизана верой в эту «лучшую часть»: «Верю ли я в то, что они услышат? А если услышат — верю ли, что поймут? Верю и вкладываю в свой призыв бесконечную тоску об их трудной судьбе и страстную надежду, что сроки уже близки и живая мысль, свободная и крылатая, будет самым мощным противником мёртвого и бездушного официального учения».
Она снимала дом на улице Лурмель для приёма бедных и больных. Место, открытое для всех без исключения. Там же небольшая церковь, настоятелем которой стал отец Димитрий Клепинин. Rue de Lourmel была гостеприимной гаванью, дверью, открытой для всех. Война, естественно, привела туда беглецов. Они нашли в этом месте глубокое богословское размышление, связанное с материнской теплотой матери Марии, жилище и убежище.
Она была очень активна, может быть, даже чересчур. Слишком быстро принимала решения, её часто критиковали за то, что она действовала, не думая о последствиях, подчиняясь только порывам души, но… Такова была её природа, которую часто называют «славянской и многогранной». Отец Димитрий Клепинин выдавал беглым евреям фальшивые свидетельства о крещении. Мать Мария бесстрашно участвовала в движении Сопротивления, иногда не осознавая опасности, которой она подвергала себя, ослабляя и без того очень шаткое положение беглецов. Тем не менее, «Православное дело» ещё больше расширилось, особенно после разрыва германо-советского пакта. Тысячи русских беженцев были депортированы в лагерь Компьен. Мать Мария передавала туда посылки и еду. После облавы в Вель д’Ив 16 августа 1942 года она смогла войти в лагерь и вытащить детей. Продолжали делать фальшивые документы для евреев, чтобы найти для них каналы для вывоза в свободную зону.
Но утром 8 февраля 1943 года, когда матери Марии не было дома, был арестован её сын Юрий, активно ей помогавший. Гестаповцы пообещали его отпустить, если к ним явится его мать. Узнав об этом, она на следующий же день пришла в свой дом на улице Лурмель, но после её допроса и ареста сына не выпустили: он так и погиб в лагере. Серьёзными уликами немцы всё же не располагали. Арестованным предъявили обвинение лишь в укрывательстве и помощи евреям. На это они отвечали: «Помогали всем нуждающимся — евреям и не евреям».
Для матери Марии начались тяжкие дни страдания и унижений в немецких концлагерях, началось её великое мученичество. Но она не впадала в отчаяние и даже поддерживала других. Ею владела не покорность — лагерных палачей она не боялась, а христианское смирение. Она и в лагере продолжала писать стихи, но они, к сожалению, не сохранились. И ещё она вышивала там иконы. Одну так и не закончила, хотя всем говорила, что если доделает вышивку, тогда уж точно вернётся домой.
Я так и не смогла понять, где она брала силы, чтобы ещё и вышивать. По воспоминаниям очевидцев, она вышивала во время перекличек, стоя, достав из-за пазухи только край, вынимая уголок за уголком, иногда даже одной рукой, тайком, озираясь на снующих вокруг эсэсовцев, зная, чем рискует, если всё обнаружится. Поразительное свидетельство сохранилось о том, что в последние дни её спасала от газовой камеры одна из эсэсовских надзирательниц Кристина. Она пыталась её укрыть во время селекций, хотя, по воспоминаниям других узников, эта Кристина была «зверь, а не человек». Мы не знаем, что она увидела в матери Марии, но возможно то, что та увидела в ней самой человека.
Зло и добро, жестокость и милосердие — эти чёрно-белые контрасты слиплись в лагере в серое месиво. Какое чудовищное зло мы способны причинять друг другу и как страдания можно встречать стойко и открыто, как это можно пережить: быть в согласии с собой и жизнью, уметь возвыситься над сиюминутным — вот свидетельство силы человеческого духа.
…Иногда ты ощущаешь себя домом с выбитыми стёклами, пустым и холодным. По дому гуляет ветер, шевелит на полу клочки старых газет, обрывки фотографий и осенние листья. Так опустошают душу предательство и подлость. Но воздух в доме вдруг становится неподвижным, будто кто-то выдохнул ветром, но не вдохнул, задержав дыхание. И ты начинаешь осматриваться: с чего начать дышать заново… С книги. Чтобы с её страниц стекала Жизнь, которая тонкой, но ощутимой струйкой заполнит опустошённые, выстуженные ветром уголки сознания.
Это те слова, которые только большой мастер выстраивает так, будто обращается именно к тебе, будто берёт тебя за руку и ведёт. Куда? В свой мир, который становится и твоим тоже. Поэтому книги матери Марии всегда под рукой.
Ослеп ли, оглох ли Бог в Аушвице, в Равенсбрюке, на Колыме, как утверждают многие богословы… Или, наоборот, он ожил в последних взглядах и последних вздохах мучеников. На этот вопрос… на него нет ответа. Пастор Дезелерс качает головой: истина не то, что ты знаешь, а то, что ты есть. Истину нельзя знать, в ней можно только быть или не быть. Я добавляю: или верить и не верить. И мы смотрим на заходящее за Ворота смерти солнце.
Никто не знает, какими были последние слова матери Марии, но её пророческое «И мгла — не мертва, не пуста, и в ней — начертанье креста — конец мой, конец огнепальный…» свидетельствует: Бог для неё оживал в умирающих душах.
Людмила Шилина (псевдоним Анна Вислоух), публицист, прозаик, член Союза писателей и Союза журналистов России.