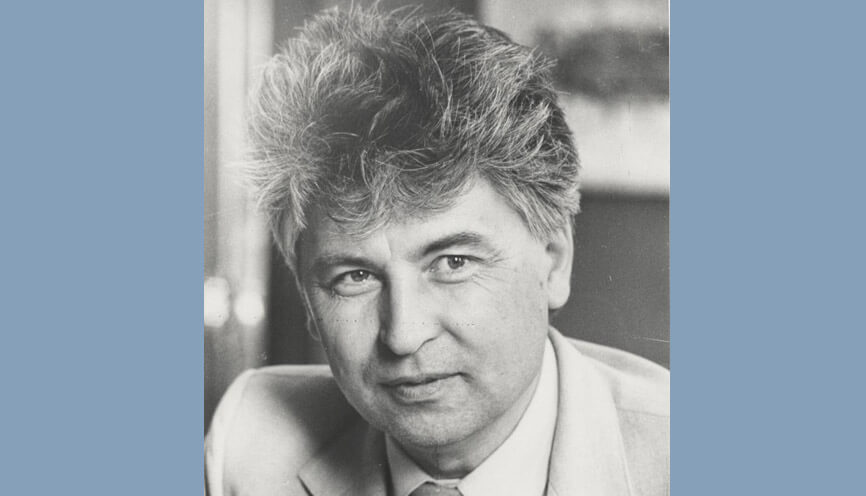
ПОЛЕТ НАПЕРЕКОР БУРЕ. К 205-летию со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета
- 09.12.2025
 При имени Афанасия Фета многие восклицают: «А-а, “шепот, робкое дыханье, трели соловья…” Как же, помню, помню!» За полтора века критика немало потрудилась, чтобы сделать из этого поэта жреца «чистого искусства». Еще при жизни Фета Н. Добролюбов обвинял его (как и Пушкина, и Лермонтова) в том, что он «обращает так мало внимания на жизнь, разлитую по всем концам нашего любезного отечества, и ограничивается чрезвычайно узким кругом тонких чувств, возвышенных стремлений и эфирных страданий». А Д. Писарев пренебрежительно предсказывал, что «гг. Фет, Полонский… и многие другие микроскопические поэтики забудутся так же скоро, как те журнальные книжки, в которых они печатаются». Прогнозы не оправдались. А. Фет стал классиком русской лирики. Однако и в наше время сонмы критиков представляют поэта ущербным созерцателем, далеким от реальной жизни и обитающим в туманных эмпиреях. Анекдотично звучат сейчас и строки эстрадного поэта, который, запальчиво выступая в роли борца за пресловутую «гражданственность», воевал с «фетятами», а заодно, конечно, и с Фетом:
При имени Афанасия Фета многие восклицают: «А-а, “шепот, робкое дыханье, трели соловья…” Как же, помню, помню!» За полтора века критика немало потрудилась, чтобы сделать из этого поэта жреца «чистого искусства». Еще при жизни Фета Н. Добролюбов обвинял его (как и Пушкина, и Лермонтова) в том, что он «обращает так мало внимания на жизнь, разлитую по всем концам нашего любезного отечества, и ограничивается чрезвычайно узким кругом тонких чувств, возвышенных стремлений и эфирных страданий». А Д. Писарев пренебрежительно предсказывал, что «гг. Фет, Полонский… и многие другие микроскопические поэтики забудутся так же скоро, как те журнальные книжки, в которых они печатаются». Прогнозы не оправдались. А. Фет стал классиком русской лирики. Однако и в наше время сонмы критиков представляют поэта ущербным созерцателем, далеким от реальной жизни и обитающим в туманных эмпиреях. Анекдотично звучат сейчас и строки эстрадного поэта, который, запальчиво выступая в роли борца за пресловутую «гражданственность», воевал с «фетятами», а заодно, конечно, и с Фетом:
Дух, значит, шепот, робкое дыханье,
и все? А где набат – народный глас?
…………………………………………
Идет игра в свободу от эпохи,
но прячась от сегодня во вчера,
помещичьи лирические вздохи
скрывают суть холопского нутра.
Уничижительное «помещичьи лирические строки» в данном случае было вздором и формально, и по сути. Фета с большой натяжкой можно было назвать помещиком. Выйдя в отставку с военной службы, сорокалетний поэт купил в родных орловских местах участок земли, построил дом и начал хозяйствовать. Фета уместней было назвать работником, работником истовым, вдруг открывшем для себя красоту и сладостную тяготу земледельческого труда. «Я люблю землю, – писал он Льву Толстому, – черную рассыпчатую землю, ту, которую я теперь рою и в которой я буду лежать… Сегодня засадил целую аллею итальянских тополей аршин по пять ростом и рад, как ребенок».
Это формальная сторона дела. А что касается «лирических вздохов» Фета, то их по достоинству оценили уже современники поэта. Ф. Достоевский, словно предвидя наскоки на автора стихотворения «Шепот, робкое дыханье…», писал в связи с этим лирическим шедевром: «…утилитаристы требуют от искусства прямой, немедленной, непосредственной пользы, соображающейся с обстоятельствами, подчиняющейся им, и даже до такой степени, что если в данное время общество занято разрешением, например, такого-то вопроса, то искусство (по учению некоторых утилитаристов) и цели не может задать себе иной, как разрешение этого же вопроса.
…этого только можно желать, но не требовать, уже по тому одному, что требуют большею частью, когда хотят заставить насильно, а первый закон в искусстве – свобода вдохновения и творчества».
Другой современник А. Фета, поэт и драматург Алексей Константинович Толстой, заметил в частном письме: «Фет – поэт единственный в своем роде, не имеющий равных себе ни в одной литературе, и он намного выше своего времени, не умеющего его оценить».
По-моему, уяснить для себя, в чем «единственность» поэта, – увлекательная душевная работа для каждого читателя. В этом нашем поиске ключик – поэтическая строка самого Афанасия Фета «Стихом моим незвучным и упорным…», а также следующие его признания в письмах: «…в истинных художественных произведениях я под содержанием разумею не нравоучение, наставление или вывод, а производимые ими впечатления… Если мне кто скажет, что он в Гомере или Шекспире заподозрил ум, я только скажу, что он их не понял. Черт их знает, может быть, они были кретины, но от них сладко – мир, в который они вводят, действительный, узнаешь и человека, и природу – но все это как видение высоко недосягаемо, на светлых облаках. Книга давно закрыта, уже давно пишешь вечерний счет и толкуешь с поваром, а на устах змеится улыбка, как воспоминание чего-то хорошего».
Почему «стихом моим… упорным»? – спросите вы. А вот почему. Когда вокруг только и слышны разговоры, что поэзия должна приносить общественную пользу, за что-то бороться и что-то отстаивать, – писать так, как писал Фет, можно только имея непоколебимые творческие принципы. По сути дела, поэзия Афанасия Фета была полетом наперекор буре.
* * *
Я с детства помню фетовское стихотворение «Чудная картина…». В нем только восемь строк, но мне всегда казалось, что оно намного больше по размеру – уж слишком широкую по охвату, раздольную, протяженную в пространстве картину зимней России оно рисует. Это не оговорка: России, а не родового имения Новоселки на Орловщине, куда Фет, студент Московского университета, вероятно, часто наведывался (стихотворение написано в студенческие годы). Такое могучее, волшебное, мистически необъяснимое воздействие на русскую душу имеет эта миниатюра:
Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.
1842
Если сказать, что патриотизм А. Фета живет в волшебных и разнообразных картинах России, то не каждый и согласится. Патриотизм – любить родную природу, воспевать ее? Да, так, а не иначе. Фета постоянно занимала его родина, жилище его души: вне ее небосвода, ее далей, ее воздуха для поэта невозможны были существование, свобода, творчество. Это чисто русская страсть, русская сладкая боль:
Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли.
На небе ни клочка лазури,
В степи все гладко, все бело,
Один лишь ворон против бури
Крылами машет тяжело.
И на душе не рассветает,
В ней тот же холод, что кругом,
Лениво дума засыпает
Над умирающим трудом.
А все надежда в сердце тлеет,
Что, может быть, хоть невзначай,
Опять душа помолодеет,
Опять родной увидит край,
Где бури пролетают мимо,
Где дума страстная чиста, –
И посвященным только зримо
Цветет весна и красота.
1862
Впрочем, мы можем найти у Афанасия Фета и прямое признание в своих чувствах к России – вдвойне дорогое, потому что редкое, не повторявшееся всуе. В своем стихотворном послании к Ивану Тургеневу он писал:
Поэт! ты хочешь знать, за что такой любовью
Мы любим родину с тобой?
Зачем в разлуке с ней, наперекор злословью,
Готово сердце в нас истечь до капли кровью
По красоте ее родной?
После таких стихов кажется естественным рассказ Фета в его книге воспоминаний «Ранние годы моей жизни» о том, как в юности он возвращался из Лифляндии, куда родители отправляли его на два года в немецкую школу-пансион: «Когда мы за Нейхаузеном, перешедши через мосток, очутились на русской земле, я не мог совладать с закипевшим у меня в груди восторгом: слез с лошади и бросился целовать родную землю». Это полезно почитать, хотя бы для сведения, тем, кто в нынешней России морщится от слова «патриот», как от зубной боли. Трудно представить, что бывший российский писатель, подавшийся из разоренной русской земли в Израиль или с вожделением добивавшийся американского гражданства и получивший его, будет целовать родную землю при очередном свидании с нею. Но зато я хорошо представляю, как страстно стремились к ней Н. Гоголь – из Италии, И. Тургенев – из Франции, Ф. Тютчев – из Германии, как смертно тосковали о ней вынужденные жить в эмиграции И. Бунин, И. Шмелев, Б. Зайцев. Мне понятно, почему скучал о ней и нетерпеливо торопился домой из долгого путешествия по Европе и Америке С. Есенин. Афанасий Фет со всей полнотой выразил в стихах свое обожание родины – и это, пожалуй, главная многостраничная песнь в его творчестве и самая патриотическая песнь в русской лирике:
Из дебрей туманы несмело
Закрыли родное село;
Но солнышком вешним согрело
И ветром их вдаль разнесло.
Знать, долго скитаться наскуча
Над ширью земель и морей,
На родину тянется туча,
Чтоб только поплакать над ней.
1886
Собственно, и утвердившееся в критике мнение о том, что судьба России, ее народа не интересовала А. Фета, – это не более чем легенда. В годы, когда Фет рьяно хозяйствовал в своей Степановке, он написал оригинальные очерки «Из деревни» и «Записки о вольнонаемном труде». Пусть это труды экономические, прикладные, но и их появление о многом говорит. А духовное запустение в деревне, а повальная нищета крестьян, а жалкое положение семьи – могли ли эти российские беды не трогать Фета? Живя в деревне, он остро чувствовал неустройство жизни, предугадывал народное возмущение. В 1879 году, во времена Александра II, который через два года будет убит народовольцами, поэт писал Льву Толстому строки, которые, казалось бы, никак нельзя было ожидать от «певца чистых нег», каким представляли Фета: «К чему же мы в настоящий момент пришли? Мне кажется, к одному и тому же убеждению, высказываемому в разных формах, что в таком хаосе понятий, стремлений, условий жизни, какие нас окружают, никакое государство, народ, общество, семейство, человек жить не могут. Нужна другая форма. Какая? Это другой вопрос. Мы, как во время бури, швыряем за борт, как одурённые, все, что под руку попадет: и ненужный груз, и образа, и компас, и руль, и паруса, и канаты, и собственных детей. Когда это кончится? Бог знает. И чем?»
Показательно, что это обращено ко Льву Толстому, тоже противнику всякого насилия. Однако насилие над народом оценивалось обоими писателями как грех наитягчайший и не замаливаемый. Возмущение этим насилием и понимание того, что народ может выступить против него, объединяло две великих души.
* * *
Афанасий Фет смотрел на жизнь, человеческую душу, природу как философ. Для него каждый кусочек земной жизни связан с жизнью мировой. И всегда для него в центре мира – на все откликающаяся и все запоминающая душа.
Как в дни безумные, как в пламенные годы,
Мне жизни мировой святыня дорога;
Люблю безмолвие полуночной природы,
Люблю ее лесов лепечущие своды,
Люблю ее степей алмазные снега.
Каждодневная жизнь духа, то окрыленного надеждами, то угнетенного предчувствиями, то освященного вышними лучами, то погруженного в сумрак, стала благодаря музе Афанасия Фета подробной и поучительной книгой для тех, кто хотел бы понять самого себя и таинственный мир вокруг:
Из тонких линий идеала,
Из детских очерков чела
Ты ничего не потеряла,
Но все ты вдруг приобрела.
Твой взор открытей и бесстрашней,
Хотя душа твоя тиха;
Но в нем сияет рай вчерашний
И соучастница греха.
1890
Да, у Фета всегда – в рассказе, размышлении, жалобе или счастливом признании – участвует трепещущая душа; если это размышление, то она много раз переболела тем, о чем рассказано в стихах; если это жалоба, то она уже не может носить в себе мучительное слово; если радостное признание, то она многократно ликовала и не в силах больше сдержать счастливого чувства. Фет берется за перо не потому, что поражен сверкающим небом или удручен неистовой непогодой; он берется потому, что душа его вновь откликнулась на зов большого мира:
Еще люблю, еще томлюсь
Перед всемирной красотою
И ни за что не отрекусь
От ласк, ниспосланных тобою.
Покуда на груди земной
Хотя с трудом дышать я буду,
Весь трепет жизни молодой
Мне будет внятен отовсюду.
Покорны солнечным лучам,
Так сходят корни в глубь могилы
И там у смерти ищут силы
Бежать навстречу вешним дням.
1890
Говорили о созерцательности стихов Фета. Но его «созерцательные» стихи не назовешь бездумными, лишь зеркально отразившими то, что увидел поэт. Мало того, что стихи Фета полны душевного огня, кипящего чувства, которыми отличаются люди эмоциональные; как всякий свет, ударивший мощной вспышкой, стихи поэта озаряют по-новому предметы, лица людей, даже их судьбу, да и саму жизнь вокруг. И тогда понимаешь: строки Фета обогатили тебя новым знанием; они мудры, как строки философа:
На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.
Земля, как смутный сон немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь.
Я ль несся к бездне полуночной,
Иль сонмы звезд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис.
И с замираньем и смятеньем
Я взором мерил глубину,
В которой с каждым я мгновеньем
Все невозвратнее тону.
1857
Это классическое стихотворение дышит такой космической мощью, таким орлиным охватом земли и небесной бездны за ее краями, что невольно вспоминаются философские страницы Льва Толстого из «Войны и мира» или Федора Достоевского из «Братьев Карамазовых». В шестнадцати фетовских строчках есть и восторг смельчака, и невольное оцепенение ошеломленного ребенка, и неожиданное открытие, и страх перед непознаваемой глубиной вселенной – вся гамма чувств смертного человека, заглянувшего в бессмертный мир. Много ли найдется таких стихотворений в русской лирике?
Иногда кажется, будто А. Фет опроверг мнение Г. Державина, А. Пушкина, Е. Боратынского, Ф. Тютчева, что главное в поэзии – мысль, без мысли она пуста. Но в том-то и дело, что Фет ведет читателя к мысли, к философскому размышлению, приобщив вначале к созерцанию. Оно у поэта молитвенно чисто, целомудренно, отрешенно от всяческих земных целей, оно – как общение с самой бессмертной красотой. «Говорите, что хотите, а ум, выплывающий на поверхность, – враг простоты и с тем тихого художественного созерцания», – полемически писал Афанасий Фет Ивану Тургеневу. И в самом деле, Фет в своем стремлении к эстетизму, к красоте жизни и искусства, кажется, пошел дальше предшественников в русской поэзии; он сделал созерцание красоты – идет ли речь о южной ночи, облике любимой женщины или произведении искусства – символом своей веры, главным занятием своей целомудренной музы.
Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!
Какая ночь! Все звезды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь.
Березы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор.
Они дрожат. Так деве новобрачной
И радостен и чужд ее убор.
Нет, никогда нежней и бестелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной – и последней, может быть!
1857
Постоянной причастности к красоте, ее присутствию «на этом и том берегу» – вот чего достигает своим художественным даром Афанасий Фет. Хочется повторять и повторять строки поэта, раздвигающие горизонт, обостряющие слух, дающие твоему сердцу новое, двойное зрение:
Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов,
Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упиться вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим.
Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец –
Вот в чем певец лишь избранный владеет,
Вот в чем его и признак и венец!
1887
Фет очень хорошо представлял эту тайную силу поэта – дарить имя рождающемуся чувству, неясному настроению, мгновенной молнии мысли. Он хорошо представлял эту силу и обладал ею – недаром же он дал точную формулу своему искусству:
Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души и трав неясный запах;
Так, для безбрежного покинув скудный дол,
Летит за облака Юпитера орел,
Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах.
Афанасию Фету удавалось в лирическом стихотворении, как лучом, высветить такую бездну сущего, что в нее, эту бездну, со жгучим интересом и благодарным вниманием заглядывали великие современники, например, Лев Толстой и Федор Достоевский. А он хотел большего. Он хотел, чтобы искусство потрясало сильнее, чем подлинные обстоятельства жизни, чем действительные ее драмы. Своим поэтическим даром он хотел объять даже запредельное – ведь земное и зримое уже покорилось ему:
ЛАСТОЧКИ
Природы праздный соглядатай,
Люблю, забывши все кругом,
Следить за ласточкой стрельчатой
Над вечереющим прудом.
Вот понеслась и зачертила –
И страшно, чтобы гладь стекла
Стихией чуждой не схватила
Молниевидного крыла.
И снова то же дерзновенье
И та же темная струя, –
Не таково ли вдохновенье
И человеческого я?
Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной,
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?
1884
* * *
Когда я читаю стихи А. Фета о родной природе, мне кажется, что для него Степановка, а потом Воробьевка Курской губернии, куда он перебрался, – это центр земли; здесь сосредоточилась его Россия, здесь ее главная обитель. Тут можно несуетно и внимательно рассмотреть подробности русской природы, услышать ее сокровенные, тайные голоса:
Я жду… Соловьиное эхо
Несется с блестящей реки,
Трава при луне в бриллиантах,
На тмине горят светляки…
Чтобы принять это в душу, нужно стоять в ночной чуткой тишине, в главном саду России, в потаенном уголке родины. Афанасий Фет потому и великий национальный поэт, что он, может быть, единственный из русских лириков подробно и точно, с большой любовью передал нам, читателям, особость русской природы, ее созвучность русской душе.
Читатель скажет: но тонко и чутко воспринимать родную природу, бережно и живописно переносить ее на бумагу, в стихи могли почти все великие поэты нашего Отечества – Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Кольцов, Тютчев и Блок, Клюев и Есенин. В чем же особый талант Фета?
Его приоткрыл Ф. Тютчев в своем стихотворении, посвященном А. Фету:
Иным достался от природы
Инстинкт пророчески слепой –
Они им чуют, слышат воды
И в темной глубине земной…
Слышать и чувствовать душу природы, зреть под «оболочкой зримой» ее тайную жизнь, в которой очень много от самого Творца, – это было доступно А. Фету. Можно сказать, что он дал голос, подарил речь русским просторам. То качество, о котором я говорил выше, соединившись с редкой способностью поэта представлять в неустанном движении, в удивительных подробностях пейзажи России, сделало его непревзойденным певцом живого цветущего мира. Да, все крупные русские поэты сказали об отчей земле свое неповторимое слово. Но Афанасий Фет словно бы поставил целью своей жизни дать полный, всеобъемлющий и красочный портрет родной природы, такой разнообразной, переменчивой и одушевленной нашей русской судьбой. Его гений выполнил свое предназначение, как и гений того, кто «в жестокий век восславил свободу», и того, кто оплакал страдания народа, и того, чье «степное пенье сумело бронзой прозвенеть». Он, вдохнувший в миллионы соотечественников любовь к родным неохватным далям, по праву встал в ряд наших духовных пастырей.
Есть ночи зимней блеск и сила,
Есть непорочная краса,
Когда под снегом опочила
Вся степь, и кровли, и леса.
Сбежали тени ночи летней,
Тревожный ропот их исчез,
Но тем всевластней, тем заметней
Огни безоблачных небес.
Как будто волею всезрящей
На этот миг ты посвящен
Глядеть в лицо природы спящей
И понимать всемирный сон.
Сказать о том, что А. Фет был в поэзии пантеистом[1], – это значит не сказать всего. Фет постоянно поверяет свою судьбу жизнью природы. Для него человек и птица, человек и травинка, человек и дождевая капля – сородичи, подвластные одним силам, одаренные одним земным путем. И когда в его поэтическом раздумье как равные соседствуют собственная душа и душа травы, душа метели, душа глухого бора, то я, читатель, ощущаю себя сыном огромной земной семьи, родней всего, что дышит, имеет голос, зрение, слух.
А. Фет, пожалуй, — первый русский поэт, который искал разгадку человеческого бытия в жизни природы. И вправду, жизнь внешнего мира более всеобъемлюща, чем человеческое существование, она таит объяснение любому движению человеческой души, она первопричина многих человеческих поступков или толчок для них. Нужно только зорко вглядываться в эту жизнь, точно истолковывать ее подсказки, уметь переводить ее безмолвную речь на язык человека. Фет умел это делать:
Учись у них – у дуба, у березы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.
Все злей метель и с каждою минутой
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!
Но верь весне. Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнию дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.
1883
В минуты смятения скорбящая душа и впрямь не знает, как вести себя, и думается, она будет благодарна вещему голосу, который подскажет ей, как переболеть «для ясных дней, для новых откровений». Недаром поэзию Фета с таким упоением и с таким постоянством любил мудрец Лев Толстой. Они переписывались в течение десятилетий; не было, пожалуй, ни одного стихотворения Фета зрелых лет, которое бы первым со жгучим вниманием не прочел писатель. На многие из них он тотчас откликался в письмах. Его отзыв, как правило, – это не светский или дружеский комплимент об еще одной понравившейся лирической пьесе; это всегда – отклик мудрого сердца, которое тревожилось о том же самом и удивлялось тому же самому, что и сердце поэта, и которое мгновенно уловило звук и смысл поэтического откровения. 22 ноября 1876 года А. Фет создал стихотворение «Среди звезд». В последнем его четверостишии звезды говорят человеку:
Вот почему, когда дышать так трудно,
Тебе отрадно так поднять чело
С лица земли, где все темно и скудно,
К нам, в нашу глубь, где пышно и светло.
Уже 6-7 декабря Лев Николаевич пишет автору: «Стихотворение это не только достойно вас, но оно особенно и особенно хорошо тем самым философски поэтическим характером, которого я ждал от вас. Прекрасно, что это говорят звезды. И особенно хороша последняя строфа».
Л. Толстой понимал, что провидеть тайную жизнь природы – это одна сторона дара; а другая – суметь воплотить ее в слове; передать ясной, внятной поэтической речью едва уловимое, текучее, теряющееся в тумане или сумраке, тихо звучащее, нарождающееся и отмирающее. Фет был волшебником того и другого. Кажется, иные стихи его сами, как природа, живут тайной жизнью, полны невыразимой прелести, понятной и близкой только сердцу, а не догадливому уму. О чем, например, это:
Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.
Далеко, в полумраке, лугами
Убегает на запад река.
Погорев золотыми каймами,
Разлетелись, как дым, облака.
На пригорке то сыро, то жарко,
Вздохи дня есть в дыханье ночном, –
Но зарница уж теплится ярко
Голубым и зеленым огнем.
1855
Стихотворение называется обыденно: «Вечер». Но ясно, что в картине, которая нарисована автором, есть некое Божье присутствие, неземное и влекущее душу:
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу…
Для Фета картины природы, особенно вечерней или ночной, исцеляюще действуют на душу. В окружающем пейзаже ищет он отрады, понимания, родственного отклика. Для него часто не другая душа – друг или любимая, – а задумчивый лес, притихшая река, теплые травы, склонившийся над изголовьем месяц могут принести утешение. В этом безмолвном разговоре с природой, в беззвучной исповеди перед нею найдет поэт все, что нужно страдающему, обойденному счастьем сердцу – понимание, участие, сопереживание:
Как нежишь ты, серебряная ночь,
В душе расцвет немой и тайной силы!
О, окрыли – и дай мне превозмочь
Весь этот тлен, бездушный и унылый!
Какая ночь! Алмазная роса
Живым огнем с огнями неба в споре,
Как океан, разверзлись небеса,
И спит земля – и теплится, как море.
Мой дух, о ночь, как падший серафим,
Признал родство с нетленной жизнью звездной
И, окрылен дыханием твоим,
Готов лететь над этой тайной бездной.
1865
Вернемся к миниатюре «Шепот, робкое дыханье…» Пожалуй, ни одно стихотворение в русской поэзии не высмеивалось так часто литературными шутами, как это. В лучшем случае они ставили поэту в заслугу то, что стихотворение написано без единого глагола: вот, мол, умелец! Однако мало кто из них замечал, что в этой миниатюре проявилась необычайная способность А. Фета превратить стих в тончайший звук замирающей флейты, перейти из области речи в угасающую вдали волшебную мелодию. Прочитайте стихотворение шепотом, к финалу все затихающим, и вы почувствуете, что сами звуки в нем требуют этого пиано, затем пианиссимо, что они – отлетающая в эфир музыка:
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря…
1850
Это создано не по наитию, это сознательно выбранное Фетом направление русской лирики. Сам он без утайки открывал свой творческий метод: «Чайковский… как бы подсмотрел художественное направление, по которому меня постоянно тянуло и про которое покойный Тургенев говаривал, что ждет от меня стихотворения, в котором окончательный куплет надо будет передавать безмолвным шевелением губ.
Чайковский тысячу раз прав, так как меня всегда из определенной области слов тянуло в неопределенную область музыки, в которую я уходил, насколько хватало сил моих…»
Можно сказать, А. Фет не просто дал русскому поэтическому слову внешнюю музыкальность – этого сумел добиться не один поэт до и после него; Фет сообщил природной музыке русской речи содержательность – художественную, эстетическую. Он остался непревзойденным мастером тонкой, выразительной, много говорящей нам музыкальности родной речи:
Облаком волнистым
Пыль встает вдали.
Конный или пеший –
Не видать вдали!
Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!
1843
* * *
Афанасий Фет более, чем кто-либо из русских поэтов, был натурой чувствительной. Об этом свойстве души как-то не принято говорить. Боже мой, быть чувствительным, проявлять свойство, более приличное для женщины, – что в этом привлекательного для мужчины? Но может быть, именно это качество человеческой души и помогает поэту открывать глубины бытия. «Ему хотелось скрыть от меня слезу – но я ее видел, –делился поэт и критик Аполлон Григорьев своими впечатлениями о вечерах, проведенных с Фетом, когда они «оба бывали настроены одинаково». – Если я спас его для жизни и искусства – он спас меня еще более для великой веры в душу человека».
В случае с А. Фетом чувствительность не означала, конечно, одну сентиментальность, повышенную впечатлительность, хотя и эти качества не грешны, для поэта особенно. За чувствительностью тут стояла способность к глубочайшему переживанию, горячему отклику на красоту; способность к восприятию той прелести жизни, природы и человека, которую не ощущают другие. Разве в каждой поэтической книге прочитаешь такие строки:
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна – любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна – вся жизнь, что ты одна – любовь,
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!
1877
Трогательную восприимчивость поэта смолоду полюбил Лев Толстой. Их дружба – не просто совпадение двух характеров; это сокровенное родство душ. Для Толстого, великого сердцеведа, было ясно, что Фет из тогдашних поэтов наиболее полно выражает мечтательность, привычку к созерцанию, поэтическую чувствительность русского человека. Писатель, создавший пленительный образ Наташи Ростовой, подлинно русские характеры Константина Левина, Ивана Ильича, Андрея Болконского, Платона Каратаева, как никто другой понимал душевные переживания Фета.
Почитаем их письма друг к другу. А. Фет – Л. Толстому в 1878 году:
«Я готов, как муэдзин, влезть на минарет и оттуда орать на весь мир: «Я обожаю Толстого за его глубокий, широкий и вместе тончайший ум. Мне не нужно с ним толковать о бессмертии, а хоть о лошади или груше – это все равно. Будет ли он со мной согласен – тоже все равно, но он поймет, что я хотел и не умел сказать».
А несколько раньше, в 1866 году, Л. Толстой признавался А. Фету в своей «неспособности» (!) передать словами глубокую привязанность к поэту:
«Чем ближе люди между собою (а вы по душе мне один из самых близких), тем чувствительней несоответственность тона письма – тону действительных отношений. Настоящие мои письма к вам – это мой роман, которого я очень много написал».
В 1876 году Л. Толстой пишет А. Фету такое же удивительное письмо – о том, каких людей он хотел бы видеть в минуту ухода из жизни. Заметьте, это написано еще цветущим человеком, имеющим множество близких людей:
«…мне никого в эту минуту там не нужно бы было, как вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее, а вы и те редкие н а с т о я щ и е люди, с которыми я сходился в жизни, несмотря на здравое отношение к жизни, всегда стоят на самом краюшке и ясно видят жизнь только оттого, что глядят то в нирвану[2], в беспредельность, неизвестность, то в сансару[3], и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение».
А были еще признания – и очень частые, – вызванные новыми произведениями обоих писателей; тут уже проверялись родство творческое, близость эстетическая и нравственная. В 1870 году Фет, написав стихотворение «Майская ночь», отправил его Льву Николаевичу:
Отсталых туч над нами пролетает
Последняя толпа.
Прозрачный их отрезок мягко тает
У лунного серпа.
Царит весны таинственная сила
С звездами на челе –
Ты, нежная! Ты счастье мне сулила
На суетной земле.
А счастье где? Не здесь, в среде убогой,
А вон оно – как дым.
За ним! за ним! воздушною дорогой —
И в вечность улетим!
«Развернув письмо, – сообщал Л. Толстой автору, – я – первое – прочел стихотворение, и у меня защипало в носу; я пришел к жене и хотел прочесть; но не мог от умиления. Стихотворение одно из тех редких, в которых ни слова ни прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое само и прелестно. “Ты, нежная”, да и все прелестно. Я не знаю у вас лучшего».
В 1879 году поэт обратился со стихотворным посланием к Александре Бржеской, к которой испытывал со времен молодости сердечную привязанность. Как не раз бывало в русской лирике, «адресное» стихотворение стало одним из вершинных произведений автора. Две заключительные строфы послания можно произносить как мольбу и благодарность, рыдающую песнь и благословение, обращенные к любимой:
Лишь ты одна! Высокое волненье
Издалека мне голос твой принес.
В ланитах кровь, и в сердце вдохновенье —
Прочь этот сон, – в нем слишком много слез!
Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.
Лев Николаевич откликнулся сразу, как только узнал о стихотворении. «Коли оно когда-нибудь разобьется и засыпется развалинами, – писал он Фету, – и найдут только отломанный кусочек: “в нём слишком много слез”, то и этот кусочек поставят в музей и по нем будут учиться».
Трогательно и поучительно это чуткое понимание Толстым душевного состояния друга. Как-то он писал Афанасию Афанасьевичу: «От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем умом сердца, как вы называете… Я свежее и сильнее вас не знаю человека».
* * *
В любовной лирике свежесть и сила поэтического характера А. Фета проявились с особой яркостью. Неостывающий накал его чувства — от молодых до преклонных лет – поразителен. Почему он и тут выделяется среди русских классиков? Разве мало нежнейших стихов посвятил женщинам Пушкин? Разве не изливал в своих стихах мучительное и сладостное чувство Лермонтов? Разве не отдал дань любви каждый русский поэт до и после Фета? Вопросы праздные – у каждого поэта своя песнь любви. Но у Фета она, при всех трагических оттенках, звучит на протяжении десятилетий неизменно с ровной и всепобеждающей силой как песня самоотвержения, обожания и верности:
Только встречу улыбку твою
Или взгляд уловлю твой отрадный, –
Не тебе песнь любви я пою,
А твоей красоте ненаглядной.
Про певца по зарям говорят,
Будто розу влюбленную трелью
Восхвалять неумолчно он рад
Над душистой ее колыбелью.
Но безмолвствует, пышно чиста,
Молодая владычица сада:
Только песне нужна красота,
Красоте же и песен не надо.
1873
Это написано пятидесятитрехлетним поэтом. Но и в семьдесят, перед кончиной, он находил благоухающие слова о бессмертном чувстве. Поэт Яков Полонский, еще один друг Афанасия Фета, с восторгом и удивлением писал ему на закате его дней: «…внутри тебя сидит другой, никому не видимый и нам, грешным, не видимый человек, окруженный сиянием, с глазами из лазури и звезд, и окрыленный. Ты состарился, а он молод! Ты все отрицаешь, а он верит!.. Ты презираешь жизнь, а он, коленопреклоненный, зарыдать готов перед одним из ее воплощений – перед таким существом, от света которого Божий мир тонет в голубоватой мгле! Господи Боже мой! Уж не оттого ли я так люблю тебя, что в тебе сидит, в виде человечка, бессмертная частица души твоей?»
А Софья Андреевна Толстая вспоминала, как Афанасий Афанасьевич гостил в Ясной Поляне за год до кончины: «Он декламировал нам стихи, и все любовь, любовь. И это в семьдесят лет. Но он своей вечно поющей лирикой всегда пробуждал во мне поэтическое настроение».
И еще – в письме к Фету в его преклонные годы: «Все та же, вечно молодая поэзия, для которой нет ни возраста и никаких оков».
Если бы перед нами не лежали стихи А. Фета (представим это несчастье), а остались бы только приведенные выше свидетельства, то какой необыкновенный и блистательный образ поэта рисовался бы в нашем воображении. Но, слава Богу, мы можем читать, и нести в памяти, и повторять сердцем стихи поэта, и вечно благодарить его за строки о любви, которая выше быта – и, конечно, дольше земной жизни:
Как богат я в безумных стихах!
Этот блеск мне отраден и нужен:
Все алмазы мои в небесах,
Все росинки под ними жемчужин.
Выходи, красота, не робей!
Звуки есть, дорогие есть краски:
Это все я, поэт-чародей,
Расточу за мгновение ласки.
Но когда ты приколешь цветок,
Шаловливо иль с думой лукавой,
И как в дымке, твой кроткий зрачок
Загорится сердечной отравой,
И налет молодого стыда
Чуть ланиты овеет зарею, –
О, как беден, как жалок тогда,
Как беспомощен я пред тобою!
1887
Когда я вспоминаю строки Фета, поразившие Толстого:
Ты нежная! Ты счастье мне сулила
На суетной земле, –
то мне кажется, что они стали образцом для молодого Блока. Все его знаменитые циклы – «Стихи о Прекрасной Даме», «Снежная маска», «Арфы и скрипки», «Кармен» — похожи на молодую рощу, выросшую близ фетовской гряды зелено-шумных, ветвистых, налитых силой деревьев. Я слышу явственно в стихах Александра Блока отзвук тех чувств, что вдохновляли его великого предшественника:
Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла.
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в глухую ночь ушла…
А когда я вновь повторяю процитированные выше строки:
Не тебе песнь любви я пою,
А твоей красоте ненаглядной.
Про певца по зарям говорят,
Будто розу влюбленную трелью
Восхвалять неумолчно он рад
Над душистой ее колыбелью, –
мне, как эхо, слышатся напоенные ароматами южных цветов, хмельные от молодого чувства строфы есенинских «Персидских мотивов»:
Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям…
Тихо розы бегут по полям…
* * *
Мы попытались очертить особенности творчества Афанасия Фета. Эти личностные черты его поэтического гения сказались потом в новых поколениях русских лириков, как родовые черты патриарха сказываются в лицах и характерах его потомков. Сам же он отдал поэзии без остатка всю свою страстную и целомудренную душу. «Здесь человек сгорел», – это он сказал о себе и своих стихах. Но сгорев в своих песнях, Афанасий Фет каждый раз возрождается с ними для новых почитателей.
[1] Пантеист – человек, рассматривающий природу как воплощение божества.
[2] Нирвана – цель духовных устремлений человека, состояние внутренней просветленности, отрешенности от земных забот (в буддизме).
[3] Сансара – земная жизнь с ее тщетой (в буддизме).
Андрей Румянцев, член Союза писателей России (Москва)







