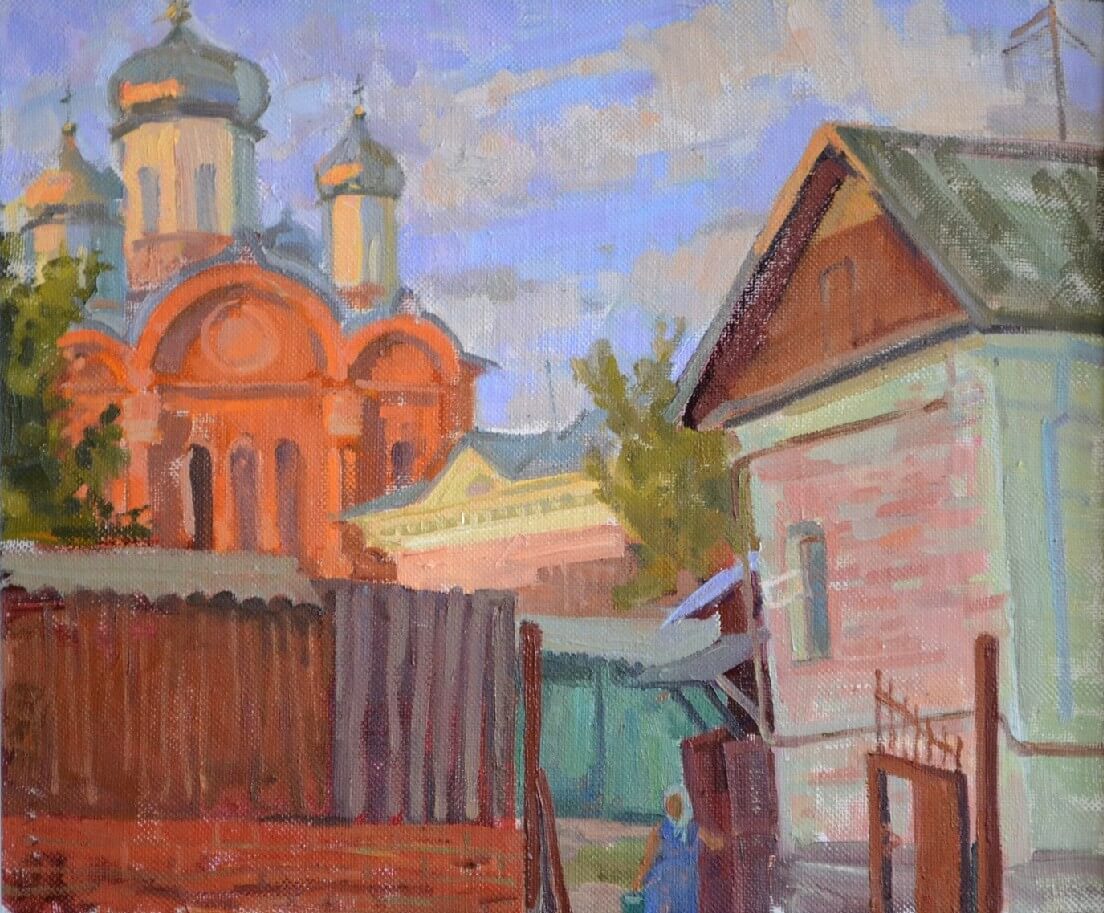
Миня Мечта
- 05.07.2020
По паспорту он Михаил Кубышкин, но в селе его зовут Миня Мечта. Пятилетним Миня остался сиротой, когда угорел отец-шофер, бывший детдомовец. Перед этим он сказал жене, что командирован в соседнюю область, а сам с помощницей бухгалтера закрылся на ночь в конторе отделения. Бросили на пол соломенный матрас, а укрылись тяжелым и сальным тулупом, пропахшим табаком. Время было зимнее, от окна поддувал ознобистый сквозняк, в углу у пола иглами рогатился седой иней — решили протопить лежанку. Топили в темноте, чтобы не привлекать внимания, рано закрыли вьюшку, а утром нашли их зелеными.
Мать Мини недолго горевала по мужу-изменнику, спуталась с приезжим наладчиком доильных аппаратов и закатилась с ним в дальние романтические края. При отъезде обещала сообщить адрес, но не сообщила. Бабушка Мини делала через милицию запрос на розыск дочери, но никакого толку не вышло, и тогда она оформила опеку над внуком. Ей охотно помогли как знатной телятнице, всегда светившейся портретом на районной доске почета. К тому же она — несменяемый депутат сельсовета. И это более всего нравилось ее внучку. Слово «депутат» казалось ему загадочным и необыкновенно важным. Может, поэтому, когда его шутливо спрашивали о жизни, он отвечал чересчур серьезно, по-местному налегая на «я»:
— Мячтаю депутатом стать!
— Эк хватил! Ты и в школу-то пока не ходишь!
— Осенью пойду…
Было это, понятно, в давние времена. Теперь, замороченные телевидением, люди говорят одинаково бесцветно, что на селе, что в городе. Только на Миню не действовало это поветрие и не могло вытравить в нем природное яканье, и помогла ему в этом приобретенная в детстве инвалидность. Однажды пришел с улицы с красным глазом, который «уколол соломкой», но на другой день краснота прошла. По-настоящему хватились лишь через два месяца, когда глаз почти перестал открываться. Миню отправили с бабушкой в область, а там сказали, что время упущено, глаз восстановить невозможно, и необходима операция по его удалению и протезированию. Чтобы сберечь второй глаз, Мине не разрешали много читать, смотреть телевизор, только что подаренный совхозом. Он и не смотрел, а учиться после шестого класса сам не пожелал. Стал помогать бабушке. Наденет великоватый отцовский пиджак, резиновые сапоги выше колен, потому что уродился мелким, и работает на ферме до пота, поблескивая на телят стеклянным глазом, выглядывавшим из-под соломенной челки.
В армию его, понятно, не призвали, и он сошелся с разведенкой, перебрался с ней и ее ребенком в пустовавший родительский дом. Вскоре и своя дочка родилась, которую через год начал воспитывать один, оставшись без жены, заплутавшей в поле и замерзшей в метель-колобродницу. Не везло Мине. Чужого ребенка забрал родной отец, а он с дочуркой вернулся к бабушке, к тому времени вышедшей на пенсию. Бабушка ждала, когда он вновь женится, но не дождалась — преставилась. Дом ее Миня продал, поделил деньги с наследниками от старшей бабушкиной дочери и перебрался жить в свой дом, теперь навсегда. Хотел еще раз жениться, но не находилось отчаянной бабенки, согласной бы выйти за инвалида с довеском, хотя иногда появлялись свободные женщины. А потом и их не стало, когда многие по городам разъехались. И его выросшая дочь уехала. Через несколько лет совхоз развалился — одно к одному.
Оставшись без работы, Миня стал жить огородом. Уж чего-чего, а куры у него всегда были, а картошку вырастить, лук с огурцами — это запросто. А нынешней весной завел индюшку, в корзинке носил ее на соседний порядок к индюку, и после этого выводок у нее получился. Миня радовался. Но вскоре от выводка остались два индюшонка. Всех остальных потаскали лисицы, а индюшку-мать, говорят, рукастый лисовин прибрал. И указывали на соседа, заманившего индюшку к себе во двор. Там и расправился с ней. Но как докажешь?! Оставшиеся без матери индюшата росли квелыми, любили на солнышке греться. Миня иногда выводил их на бугор, на солнышко, и привязывал за лапки, не имея сил бегать за ними. А так хорошо: привязал и ползай по бугру, собирай клубнику и рви чабрец для заварки, готовь на зиму.
Как-то пригнал индюшат к дому, загнал их в катушок и присел на лавочку отдышаться да заодно перебрать охапку чабреца. Только присел — соседка Клавдия идет. Роста невысокого, глазастенькая, в платок закутанная, глянула на него и остановилась:
— Чего это с тобой? Лица нет, и дышишь тяжело!
— А ты поносись по буграм! Вот сижу и мячтаю кроликов завести: живут себе в клетках, никакой беготни с ними.
И так Миня красочно расписал, как теперь будет сытно да сладко жить, что соседке надоело его слушать.
— Пошла я… Огурцы надо полить…
— Погоди, вот возьми — чайку попьешь! — и отдал ей пучок чабреца.
Клава траву взяла, но болтать с ним более не стала. А Миня не огорчился, потому как совсем иное вилось у него на уме.
Как и мечтал, через неделю он купил трех крольчих и крола. С них все и началось. К следующему кучерявому лету они расплодились, и пришлось позаботиться о сбыте. Начал ходить в райцентр в базарные дни. Но туда разве находишься за семь километров. Да и не особенно брали мясо у незнакомца сомнительной внешности. И тогда Миня наловчился продавать кроликов дачникам в своем селе. Зная, сколько кролики стоят в магазинах да на рынке, он продавал намного дешевле. И к нему сразу очередь. Даже на бумажке стал записывать: кому приготовить, когда и сколько.
За три кроличьих тушки сосед-дачник привез из города подержанную холодильную камеру, и Миня горя не стал знать. Сам сыт да всегда десяток тушек держал в морозилке на продажу. В выходные они разбирались, и он готовил новую партию. И все бы хорошо, но неожиданно сосед испортил настроение. Как-то без стука заглянул в веранду, сказанул с нескрываемой обидой:
— Михаил, надо бы еще парочку кроликов добавить за морозилку!
Кубышкин в это время промывал над тазом пустую глазницу, запорошив ее трухой, когда убирал в сарай сено. Застигнутый за этим знобким занятием, Миня сердито ответил:
— Ничего не знаю. Договаривались о трех кролах, значит, о трех. Морозилка твоя и двух не стоит. На помойке какой-нибудь нашел.
— Куркуль ты одноглазый! — зло сказал сосед и, не попрощавшись, ушел.
— Вот гаденыш-то! — вслед ему плюнул Миня.
Он достал из стакана с водой стеклянный глаз, подошел к зеркалу, чтобы вставить его; протез зимой меняли, но с серым зрачком не оказалось, поставили тот, какой был в наличии, — с карим. Поэтому последнее время Миня ходил разноглазым. Но его это мало волновало. А вот сосед-дачник, которого сразу невзлюбил, не давал покоя. Ожиревший, вечно слюнявый и, главное, ленивый. Дня не проходит, чтобы не озадачить. То ему грядки необходимо вскопать, то забор починить — и все за «спасибо», так сказать, по-соседски. А чтобы стаканчик поднести — об этом и разговора никогда не заводил. Лишь спитым чаем угощал. Когда же позвал колодец копать, Миня строго отказался:
— Хватит! А то набаловался. Я такой же пенсионер, как и ты, а не лезу к людям с пустяками. Пусть твоя жена сухоребрая копает!
Сосед перестал здороваться и начал со своей усадьбы камни да хлам кидать, но сразу же получал ответку, да с процентами. И тотчас соседушка примолк, особенно, когда Миня нашел дохлую кошку и подбросил ее соседу. Даже, почуяв характер, здороваться начал, правда, сквозь зубы. «Можешь не здоровкаться — невелика потеря! — ехидничая, думал Миня. — У меня другая соседка имеется — есть с кем душу отвести. Клава хотя и постарше чуток, но из ума не выжила, уважение имеет, а не то, что ты, голодранец, какой год на облезлой развалюхе громыхаешь, а гонору-то, гонору!»
Миня знал, что всегда может прислониться к соседке Клаве. Ведь знаком был с ней с детства. Потом Клава замуж вышла, он женился. Так и стал для соседки просто Михаилом. Считай, рядом жизнь прожили, а никогда не поругался ни с ней, ни с ее мужем. Со временем дочки Клавдии разъехались, мужа пять лет как не стало. Так и перебивалась она вдовой, выбираясь из дома, чтобы повозиться в огороде и принести охапку травы Мининым кроликам или сходить в магазин. Иногда за его усадьбой присматривала, когда он отправлялся в райцентр.
Вернулся Миня однажды, упрев от жары, а у палисадника машина стоит и вполне приличный мужчина дожидается на лавочке: коротко подстрижен, брюки узкие, одеколоном пахнет и первым поздоровался:
— Здравствуйте, Михаил Александрович! Из соседнего села приехал… Говорят, у вас крольчатина недорогая есть на продажу?! Охотно купил бы! К свадьбе готовимся!
Присмотрелся к нему Миня, вроде свойский парень, и согласился:
— Есть немного. Вам сколь же тушек необходимо?
— Да парочки хватит…
Вынес Миня кролов, гость рассчитался и, как только деньги оказались у Кубышкина, властно сказал:
— Налоговая полиция!
— Ну и что из того?! — Миня не подал вида, что растерялся.
— А то, что вы нарушаете закон: используете наемный труд, занимаетесь незаконной торговлей, а налоги не платите. Сейчас составим акт!
— Навет! — огрызнулся Миня и выбросил деньги.
— Зря стараетесь… Купюры помечены, и на них остались потожировые отпечатки ваших пальцев…
— Какие такие жировые?!
— Узнаете потом, если заартачитесь. Объяснят, где надо… Садитесь рядом, акт будем составлять.
Миня понял, что теперь не отвертеться, но сдаваться без боя не хотел:
— Если кому-то надо подмаслить — пожалуйста… Забирайте кроликов задаром!
— Взятку предлагаете… Значит, знаете, что для занятий фермерством необходим пакет документов, и осознанно нарушаете закон!
— А если я, к примеру, дочь и внука хочу угостить мяском? Тоже нельзя?
— Это можно… А пока распишитесь, что получили предписание о незаконном предпринимательстве. И штраф надо будет оплатить.
Миня расписался, попытался отнести кроликов в морозилку, но налоговик остановил:
— Оставьте! Тушки необходимо отвезти на экспертизу! — и, конфисковав кроликов, собрал в траве купюры и направился к машине.
— Вопрос остался! — остановил Миня. — От кого же узнали-то обо мне? Кто показал?
— Вам-то какая теперь разница…
«Вот те раз! — так и присел Кубышкин, глядя вслед удалявшейся серой легковушке. — На заросшие поля да разбитые фермы чинуши не обращают внимания, а если кто-то попытается копейку заработать — штраф за это. А я мясо-то в Америку, что ли, гоню? Ведь снабжаю диетическим продуктом трудовой народ!»
Несколько дней бушевал он, ругая самого себя, что все последние годы голосовал за либералов, в один момент подорвавших к себе доверие. И так теперь получалось, что душу воротило от них. Пострадав несколько дней, он, хочешь не хочешь, отправился в райцентр, чтобы оптом продать кроликов торговцами, но не договорился. Не согласился на бросовую цену. Остался расстроенным. Заплатил в Сбербанке штраф, позвонил зятю в соседнюю область, объяснил ситуацию и попросил:
— Приезжай за мясом. Мне теперь кролов кормить толку мало.
— А нам куда столько? До зимы уж держи, хотя недели через две могу приехать, немного забрать.
«Хоть так», — подумал Миня и заглянул в летнее кафе, взял кружку пива для успокоения нервов, уселся на ветерке, глоток сделал и увидел идущего Чесночникова — секретаря совхозного парткома, а теперь главного районного оппозиционера. Поэтому в последние годы недолюбливал Чесночникова, считая его политически отсталым. Но все-таки ради приличия позвал за стол. Поздоровались, поделились новостями. Не хотел, но рассказал о своем несчастье. Горбоносый и мосластый Чесночников усмехнулся в рыжие усы, сощурил и без того узкие, словно у степняка, глаза, посмотрел так, будто сам служил в налоговой:
— Значит, говоришь, как баскак наскочил?! А ты как хотел. Налог надо платить при любой власти. Другое дело, каков он, стоит ли овчинка выделки. Да и пора тебе угомониться, Михаил. Лет тебе немало, жил бы на пенсию и не дразнил этих самых баскаков. Все они на одно лицо — служба такая. А сам кролов бы помаленьку держал — для себя-то можно. И время бы свободное оставалось. У нас на следующей неделе намечается партийное собрание, приходи, послушаешь, загоришься каким-нибудь полезным делом. Глядишь, тебя кандидатом в депутаты местного поселения выдвинули бы от нашей партии. Ведь у нас все кандидаты с высшим образованием, а ты из простого народа. А то, что пока беспартийный, это даже и хорошо. Мы, настоящие партийцы, не любим выпячиваться. В общем, подумай!
Миня думал недолго. Счастливо зажмурился от предложения и осторожно спросил, не будучи уверенным, что правильно понял Чесночникова:
— В депутаты заманиваешь?! Справлюсь ли?!
— Справишься… В случае чего — поможем!
Из райцентра Кубышкин уходил, словно летел, а более всего из-за того, что с Чесночниковым обменялся номерами телефонов, и тот сказал, что при необходимости позвонит. «Вот это дело!» — думал Миня. Встреча с Чесночниковым напоила его новой силой, как целебной горной водой, дала простор воображению и мечтам. Они, казалось, вились над ним в высоком небе вместе с неугомонными стрижами, иногда сбиваясь в мелькавшие стайки, а иногда дружно разлетаясь веером, и Миня представил, что вместе с ними может взвиться к небесам. Даже остановился, понаблюдал за ними, пока глаз не заслезился.
Свернув с шоссе, он прошел через усадьбу во двор, постоял у клеток с кроликами, поговорил с ними: «Все, косые, скоро вас уполовиню, а потом и вовсе изведу. Зачем вы мне, если я без пяти минут депутат! Поняли? Де-пу-тат! Это не хухры-мухры какая! Да куда вам понять, только и знаете, что корм переводить да сырость разводить!» От счастливого настроения Миня не вспоминал о штрафе, хотя недавно очень не хотелось расставаться с деньгами. Теперь же неуловимо возвышенные мысли заполнили его. «Хотя держава от моего штрафа сильно не разбогатеет, а все равно малость укрепится!» — радовался он.
Несколько дней ожидал звонка от Чесночникова, а он не напоминал о себе. «Вот прохвост, каким был, таким и остался: наболтает, наобещает — и в пыльные кусты. Ищи его там. А будешь искать — извазюкаешься, а он с другой стороны выскочит чистеньким». Поэтому решил напомнить о себе. Телефон взял, а он выключенным оказался. «Вот это да! — удивился Миня. — То-то никто не звонит, думал, налоговой испугались, и более не хотят со мной связываться. А оно вон что!» Он сразу позвонил Чесночникову, а тот тотчас укорил:
— Где пропал-то?! Звоню-звоню — никакого толку… Сегодня уж поздно, подгребай ко мне завтра, да паспорт не забудь. Напишешь кандидатское заявление в партию да внесем тебя в наш депутатский список.
— Все понял. Только запамятовал, в какой пятиэтажке живешь? Во второй или третьей от завода?
— Теперь в коттедже обживаюсь. Сбоку от больницы, где был военкомовский парк…
— Понятно… — отозвался Миня и подумал: «Значит, парк вырубил и хоромы отгрохал!»
Из-за этих самых хором и не хотелось ему тащиться в райцентр. Но, если обещал, отправился. За село вышел, вспомнил, что паспорт забыл. Вернулся. Посидел на лавочке, увидев в своем возвращении нехороший знак, предупреждение, хотя о чем оно, так и не понял. Ведь ничего злобного никому не делал, если не считать соседа, всегда относился ко всем приветливо. Но все равно повернулся вокруг левого плеча — на удачу.
Коттедж нашел быстро, да и трудно его не найти, если он стоял на месте исчезнувшей рощи, огороженный высоченным забором. Когда позвонил в дверь рядом с воротами и вскоре увидел хозяина, то удивился:
— Ну и отгрохал избушку…
— Да ладно уж, не выдумывай… Видел бы, каких избушек, как ты говоришь, на нашем «поле чудес» понастроили. Проходи!
Прошел Миня в дом, уселся за столом на первом этаже, и хозяин сразу обложил бумагами, пояснил:
— Пиши заявление по выдвижению в депутаты и вступлению в партию. Пока кандидатом.
Когда он написал по образцу заявления и преданно посмотрел в глаза хозяину, Чесночников похвалил:
— Вот и прекрасно! Сейчас снимем копию с твоего паспорта и перекусим, обмоем это дело.
Выпил Миня хорошей водки, закусил красной рыбой и вкусной колбаской, а после почаевничал. Это все хорошо, но главное в ином: теперь по-иному смотрел Миня на Чесночникова — будто на закадычного друга, даже пожурил себя, что не догадался крола поднести в подарок. Крольчатиной его, конечно, не удивишь, но отношение было бы другим.
— Как только зарегистрируем наш список в избирательной комиссии, — начал тот пояснять, — сразу позвоню. Будь постоянно на связи, телефоном не балуйся — дело серьезное. Кандидатом пойдешь от своего поселения. До сегодняшнего дня держал для тебя место, а ты как провалился.
Кубышкин постеснялся сказать, что телефон был выключенным из-за оплошности, не стал выказывать себя бестолковым, лишь что-то пробурчал непонятно, понимая, что вскоре исполнится мечта всей жизни. Думая так, он вздыхал и улыбался. Скоро в селе узнают об этом, и в деревнях по всей округе узнают, потому что они приписаны к их поселенческой администрации. И где он ни появится, везде его будут называть по имени-отчеству, а не Миней. Узнать бы, кто придумал это обидное слово, да намылить бы холку, а не то и дрючком по загривку пройтись — на всю оставшуюся жизнь проучить.
Позвонил Чесночников недели через две. И сразу с места в карьер:
— На завтрашний день намечена встреча с кандидатом в депутаты в вашем селе, с тобой то есть. Когда будешь выступать перед сельчанами, держись смело, будто каждый день выступаешь, народу будет немного, хорошо, если 12–15 человек соберутся. На выкрики и реплики не реагируй. Расскажи коротко о себе…
Кубышкин перебил:
— Выступать я люблю, хотя чего зря болтать-то, когда обо мне и так все знают!
— Не горячись. Так принято. Представишься, коротко расскажешь, что всю жизнь отдал родному селу, работал на ферме, имея инвалидность. А теперь находишься на заслуженном отдыхе, но не успокаиваешься, душой болеешь за односельчан. И обещай им побольше. Скажи, что все сделаешь, чтобы газ к селу подвели, клуб отремонтировали и начальную школу восстановили.
— Пустое все это. Инвалидность с меня давно сняли. Да и кто я такой, чтобы по моему хотению газом занялись? Или школу открыли? Кто в ней учиться будет, если на все село едва пяток мальцов наберется!
— А тебе что, трудно сказать, что на перспективу будешь стараться. Газ подведешь, легче жить станет, значит, людей прибавится, и детишки с ними прибудут! Понял, голова?!
— Про детишек понятно, а как с газом быть?! Не могу врать!
— Врать не придется. Скажу по секрету, что принято решение о газификации вашего села, работы начнутся в конце августа. Незадолго до выборов. В районной газете сообщат о событии. Избиратели в селе подумают, что это ты похлопотал. Обещал — выполнил! Сразу другое отношение. И голоса все твои будут.
— А если узнают, что это от меня не зависело? И обвинят в брехне. Что тогда?
— Если сам не разболтаешь, никто не узнает. А кто будет настырничать, прилюдно обвини, что, мол, он вредитель выборам, а значит, государству. Скажешь так, а лиходею и крыть нечем, сразу завянет. Понял? Посмелей будь, понастырней!
На следующий день около Дома культуры собрались в послеобеденный час старики в майках да футболках, да в мятых штанах, да в шлепанцах на босу ногу — сидели на обрезках досок, привезенных с пилорамы для отопления, курили; и женщины пришли из любопытства, стояли в сторонке, цветастыми халатами сливаясь в разноцветный живой клубок. Собравшись на встречу, Миня упаковал в лопухи да тряпицу крола, уложил в пакет, решив при встрече с Чесночниковым все-таки поднести подарок, проявить, так сказать, уважение, и сидел вместе с ничего не подозревающими стариками, гадавших о неведомом кандидате, даже не догадываясь, что это всем известный Миня.
Вскоре подъехавшего Чесночникова встретил невысокий, полненький завклубом. Он пригласил гостя и избирателей. На столе перед сценой стоял голый стол, а на нем несколько бутылочек с газводой и пластиковых стаканчиков. Чесночников подхватил Миню под руку и усадил рядом с собой и, когда старики немного угомонились, заглушив общее недоумение, поднялся над столом.
— Здравствуйте, дорогие сельчане! Мы прибыли к вам, чтобы поговорить, обсудить насущные заботы и проблемы…
Он говорил долго, и Кубышкину надоело слушать, а чтобы не скучать, — исподтишка посматривал на пакет с кролом сбоку от стола, на сельчан, будто впервые видел их, и подливал себе газировки, да так часто, что подумал: «Еще полстакана выпью и лопну!» Он укоризненно посмотрел на Алексея Павловича, словно действительно мог лопнуть, но не от газводы, а от его болтовни, а тот вдруг неожиданно вспомнил о нем.
— Вот, пожалуйста, принимайте Михаила Александровича! Он расскажет вам о себе и своей предвыборной программе, с какой идет на выборы. Его слова никогда не расходятся с делом. Вы все это знаете, и сейчас убедитесь в искренности земляка, радеющего за родное село.
Все так и ахнули, а Миня начал говорить хотя и с запинки, но, откашлявшись, сразу вспомнил о своей привычке иронично вести разговор. И неважно, кто был перед ним. У него на любой случай находилось нужное слово, и частенько оно было едким и откровенным — этим и производил впечатление. Но в этот раз разговор не заладился. Как только он пообещал, что приложит все силы и добьется того, что в село проведут газ, какой-то мужчина крикнул с дальнего ряда:
— Врешь все, привык языком-то молоть, а он без костей… Сперва расскажи, зачем кошек ловишь и продаешь их как кроликов?!
Уж чего-чего, а такой наглости Миня не ждал. Мельком посмотрел в тот угол, откуда донеслись оскорбления, и увидел соседа.
— Это — навет, натуральная порча! — выкрикнул Миня. — Все знают этого злобного дачника и постоянно испытывают от него хулиганское и несправедливое поведение.
— А справедливо использовать наемный труд и налоги государству не платить?! Ответь, уважаемый кандидат в депутаты!
— Уж кто бы лялякал… Всем известно, что городскую квартиру сдаешь незаконно. И тебя давно бы пора потрясти и разоблачить!
— Это мы посмотрим, кто кого! Найдем управу! — стушевался Минин обидчик и поспешил выскочить из зала, опрокинув стул.
И никто уж больше не слушал Кубышкина, начали обсуждать перепалку, и стало ясно, что встреча с кандидатом сорвана. И все же Чесночников попытался сгладить ситуацию, попросил вспотевшего Миню присесть, а сам встал:
— Тише, пожалуйста! Для того и существует политическая борьба, чтобы разоблачать несознательных граждан, пытающихся кинуть тень на уважаемых людей. Слова Михаила Александровича никогда не расходились с делом. И то, что он сказал о предстоящей газификации вашего села — есть чистая правда. Наши партийцы давно обсуждали этот вопрос на заседаниях администрации района и добились своего. В продвижении этого проекта самое непосредственное участие принимал ваш земляк. Да что там: он первым поднял эту тему. Так пожелаем же ему успехов на выборах и дружно проголосуем за нашего кандидата!
Все зашушукались, по-настоящему говорить стало не о чем, и завклубом поспешил напомнить, что встреча закончена, и поблагодарил гостей. Все выстроились к выходу, а Чесночников шепнул Мине:
— Не переживай… Скандал — это даже хорошо, теперь надолго хватит пересудов. Зато на выборах все будут голосовать за тебя, уж поверь мне.
Миня кивнул, но кивнул неуверенно и, кисло попрощавшись, пошел домой уставшим-уставшим, решив не отдавать крола, по-настоящему осознав, что значит его депутатское рвение. Пустое оно и противное, если надо врать, изворачиваться, думать одно, а говорить другое и стараться при этом не тушеваться, а самому идти в наступление. «Вот зачем, спрашивается, ославил соседа, сказал, что тот незаконно сдает квартиру?! Ведь на ходу придумал, языком трепанул, а чего в этом хорошего?» Правда, вспомнив, как прыснул из зала соседушка, понял, что, сам того не желая, угодил в точку. Иначе он и далее перебрехивался бы, не уколи его. Но все это мелочи, а самое главное Миня видел теперь в том, что сунулся не в свою стихию, где все непривычное и чужое. Поэтому тем же вечером позвонил Чесночникову, сказал, запинаясь, стыдясь своих слов:
— Алексей, хочу доложить, что отказываюсь от депутатства, и в партию твою вступать не намерен. Извиняй. Не мое это дело, суета. Пусть молодые занимаются. А нам чего уж, — он вздохнул, — как-нибудь и так доживем.
— Ну и зря! — только и сказал рассердившийся Чесночников и отключил телефон, а Миня порадовался, что не стал укорять.
Кубышкин укрылся в доме, вспоминая детскую мечту, теперь окончательно несбыточную, а когда надоело переживать — занялся кроликами, решив забить нескольких к приезду зятя; давно бы пора заняться этим, да все недосуг было. А теперь самое время. К ночи он совсем успокоился, окончательно решив, что настоящим мясоедом ему не суждено стать, и заснул с приятной усталостью наработавшегося человека. Когда же раннее солнышко залило избу щекочущим светом, накормил и напоил оставшихся кроликов, а потом присел у палисадника на лавочку и смотрел на уходящую вдаль улицу с разлатыми кустами калины и черемух около сараев, на едва видневшийся сруб колодца в ближней низинке, прислушивался к жужжанию пчел в цветущей над лавочкой липе. Дышал и не мог надышаться ароматом цветочного нектара. И сладкая радость необыкновенно расплывалась на душе.
Он не заметил, когда появилась принаряженная соседка, и вздрогнул от ее хриплого окрика над самым ухом:
— Не спишь, депутат?
— Клав, чего-то напутала. Нет на нашем конце депутатов, и никогда они не водились.
— Говорят, ты вчерась народ агитировал в клубе…
— Попросили…
— А я дочку с внучкой ныне жду — пирогов напекла к их приезду и решила заодно будущего депутата подкормить! — сразу сменила разговор соседка.
Он улыбнулся:
— Если так, то и я в долгу не останусь.
Он сходил в сени, принес замороженную тушку.
— Вот и от меня принимай.
— Ой, а чем же заплачу-то? До пенсии-то неделя!
— Никаких денег! Подарок! Нужно будет — еще найдем. Отнеси крола в холодильник и возвращайся, а я пока чайник поставлю, коли уж пирогами снабдила.
Чудная, конечно, Клавка, всегда в платки закутанная, вечно из них курносый облупленный нос торчит, а ныне растелешилась и неожиданно неброско расцвела подобно позднему луговому цветку. Мине было приятно ее внимание, но он все-таки не спешил расшаркиваться, понимая, что впереди у них много светлых дней и нескончаемых свойских разговоров.
Когда соседка вернулась, Миня, ожидая ее на крыльце, загадочно вздохнул:
— Мячта есть…
— Это какая же? — улыбнулась Клава.
— Не тереби. Потом скажу! А сейчас заходи — чайку попьем.
ВЕТЕР ОКОЛЬНЫХ ДОРОГ
Александру Шурыгину почти сорок, но он по-юношески строен, всегда аккуратно подстрижен, всякая одежда ему к лицу — не мужчина, а загляденье. До последнего времени казалось, что жизнь у него ладится, он цветет от нее, но неожиданно впечатление испортилось. И причиной этому стала Ксения — его первая любовь, когда-то забытая, но вдруг появившаяся будто ниоткуда, а против нее он не боец.
Как-то на исходе лета увидел ее в магазине и обомлел, едва признав из-за непривычной полноты и узелка на затылке. Пригляделся и увидел приметную родинку на шее за левым ухом, а главное — голос ни капли не изменился, а ее бархатный голос Александр узнал бы из тысячи иных голосов. Она болтала с продавщицей, а он застыл за ее спиной, смотрел на родинку, на пушистый, словно пуховый, завиток рядом с ней, и, чувствуя, как перехватывает дыхание, боялся глубоко вздохнуть, словно мог спугнуть волшебное видение. Мысли моментально унесли в юность, встречи с Ксенией вспомнились так четко и ясно, словно он и не расставался с ней никогда.
Когда она расплатилась за покупки и пошла к выходу, Александр радостно окликнул:
— Ксюш…
Она не сразу, но оглянулась. На какое-то время замерла, словно ослышалась, и, улыбнувшись, кивнула, приглашая за собой. А он даже забыл, зачем заглянул в магазин. Выскочил следом.
— Вот кому не пропасть-то! — удивилась она на улице и прислонилась к его плечу, по старой привычке заливисто хихикнула. — Ты откуда взялся-то, герой?
— Всю жизнь здесь живу, не как некоторые…
— А я вернулась к маме. Болеет она, а отец умер в прошлом году. Пришлось бросить работу, мужа. А детей у меня нет, Сашенька, — ты когда-то постарался, чтобы их не было.
Шурыгин сперва промолчал, а потом вздохнул:
— Чего теперь ворошить старое. Пустое дело.
— Да я и не ворошу, а как вспомню, как душу выматывал из тогдашней девчонки, то до сего времени ночью вскакиваю, слезами заливаясь… Молчишь. А тогда говоруном был отменным. Каждый день приставал: «Без тебя жить не могу!», «Все для тебя сделаю!» Таким заботливым оказался, что даже к врачу потом водил, не постеснялся, денег не пожалел.
— Ты тоже не терялась, как ретивый сержант постоянно давала вводную: то «проводи», то «поцелуй», то «чтобы завтра без цветов не являлся!»
Александр сразу вспомнил ту зиму, когда демобилизовался, начал работать водителем и влюбился в подросшую Ксению, жившую на соседней улице. Вернее, она сама влюбила его в себя, постоянно мелькая перед глазами. До его призыва в армию неприметной была, с косичками бегала, но он после демобилизации, увидев ее на танцах, едва узнал: невеста невестой! На один танец пригласил, другой — и все, прикипел. Думал, это навсегда, на всю жизнь, но у нее были другие планы. Побывала она у врача после их встреч, кое-как сдала в школе экзамены и поехала поступать в институт. И не вернулась. А он сразу охладел к ней, зная, что уехала она с обидой в душе. Даже радовался, что все обошлось без огласки и лишней нервотрепки.
Вскоре познакомился с сероглазой Полиной из соцотдела, в тот же год женился. Жил сперва у нее, а когда родился сын Павлик, родители помогли купить двухкомнатную квартиру. Правда, пришлось немного занять, но Александр в ту пору заруливал на междугороднем автобусе и неплохо зарабатывал. Но потом их автобаза развалилась, и Шурыгин, окончив курсы охранников, начал мотаться в Москву: две недели отбарабанит, а две недели дома с сынишкой занимается. Встретит его из школы, проследит, чтобы тот сделал уроки, а после, если располагала погода, уходил с ним на Сосну — рыбу удить. Уловы почти всегда незавидные, зато с сыном настоящее общение. Поднимутся они от реки, оглянутся, окинут взором заречные дали, а Шурыгин скажет:
— Вот она, Павлуш, наша Родина! Разве можно ее не любить?
Сын всегда отмалчивался в такие минуты, но как-то сказал:
— И мамку тоже любить надо!
— Об этом и разговора нет, — согласился Александр, хотел напомнить, что и об отце забывать нельзя, но промолчал, опасаясь уж слишком навязывать свое мнение.
Всякий раз они возвращались радостными, охотно занимались чем-нибудь по дому, и Полина в такие дни была спокойна за сына.
Когда муж уезжал на вахту, за Павликом следили его бабушки. Правда, они не всегда успевали за внуком, взрослевшим с каждым годом и проявлявшим все большую самостоятельность. Сын мог улизнуть от надоедливой опеки и полдня бродить по городу: то на карусель отправится и там подерется с мальчишками, то в тире все карманные деньги потратит. А как-то в Москву к отцу махнул. Но не доехал — в тот же день с поезда сняли. Но все это теперь в прошлом. Сын повзрослел, правда, но по-прежнему ластился как детсадовец: папка да папка.
Заботясь о семье, Шурыгин все эти годы ничего не знал о Ксении, хотя чего проще: сходи к ее родителям, поговори, глядишь, какая-то появится ясность. Но не хотел ворошить старое. Хотя кое-что узнал в прошлом году от ее одноклассницы. Оказывается, уехав после школы, Ксения вместо института устроилась в Москве на электрозаводе, поселившись в общежитии, трудилась в обмоточном цехе, но эта работа показалась по-настоящему тягомотной. Узнав, что заводские подруги вербуются на Камчатку, примкнула к ним и потом на плавбазе разделывала рыбу, ставшую сниться в кошмарах.
Более ее подруга ничего не рассказала, хотя знала, что Ксения при очередном возвращении из плавания закрутила роман с местным парнем, вскоре расписалась с ним, и каторга на плавбазе осталась только в воспоминаниях. Они, понятное дело, хотели ребенка, но ничего не получалось. Ксения для вида ходила по врачам, хотя догадывалась о причине своего несчастья, нехорошо вспоминала Шурыгина и укоряла себя, тогдашнюю дурочку. Долго мечтала об искусственной беременности. Когда же поделилась заботами с мужем, то он наотрез отказался показываться медикам, да еще укорил: «Тебе надо — ты иди, а меня не позорь на весь город!» Ксения понимала мужа, но и обиду не могла терпеть: предложила развестись, и он легко согласился. Так и закончилась ее камчатская история. И вот уже полгода прошло, как она вернулась на малую родину. Устроилась диспетчером в автоколонну.
Шурыгин после разговора с подругой Ксении жил размеренно и спокойно, зная, что ничего изменить не может. Но вот, совсем не ожидая, встретил ее саму, и вновь полыхнула свежей весенней молнией прежняя любовь, и вернулись нерастраченные чувства, и он, забыв обо всем на свете, провел с Ксенией на съемной квартире несколько ночей. Вскоре бросил работу в Москве, вернулся за руль, теперь в такси, и Ксения обеспечивала выгодными заказами. Но главное, из дома ушел, никому ничего толком не объяснив, не поговорив; однажды по-тихому заехал и набрал сумку вещей. Лишь жене потом доложил по телефону коротко и грубо:
— Можешь не ждать…
— Я-то ладно… А как же сын? — охнула она.
Он промолчал, не найдя нужных слов, потому что и сам не знал их, лишь надеясь на предстоящий разговор с Павлом. Он поймет, должен понять. Взрослый ведь совсем, недавно паспорт получил.
Пока собирался поговорить, месяц проскочил как во сне, а он и не заметил этого из-за привалившего счастья, повторявшегося изо дня в день и ставшего продолжением начальных давних дней. Он все-все вспомнил, как у них начиналось: как впервые пригласил Ксюшу на танец, как впервые поцеловал, как утешал и вытирал слезы после вспышки трепетной близости, когда никто из них не понял, как она произошла. Но ведь произошла и потом повторялась неоднократно. Шурыгин в те дни потерял голову. Он и теперь, пережив все заново, продолжал находиться в необъяснимо волшебном состоянии. Даже забыл на какое-то время о сыне и вспомнил о нем, когда позвонила жена и будто обожгла, сказав, что он ушел из дома и второй день не появляется.
— В полицию-то хотя бы заявила? — резко спросил Шурыгин, сразу вернувшись с небес на землю.
— Заявила, да что толку… Это все из-за тебя, из-за твоей крали…
— Он и прежде сбегал, с поездов снимали.
— Когда это было-то? А если и сбегал, то с тобой хотел быть, а ты этого так и не понял. Променял сына неизвестно на кого.
— Хватит мораль читать. Найдется. Не мог он далеко уйти. Где-нибудь на вокзале болтается.
Разговаривал Шурыгин при Ксении, и она сразу поняла, о ком речь, но все-таки спросила:
— С сыном что-то случилось?
— Из дома ушел.
— Ничего особенного… Набегается и вернется. На Камчатке, бывало, молодежь месяцами на реках живет, когда рыба на нерест идет. И ничего — родители не переживают особо. Это же так романтично! — А у самой рот до ушей, будто вспомнила что-то неописуемо приятное.
Уж лучше бы Ксения промолчала, а то после ее пустых слов да ухмылочки в Александре все перевернулось; он догадался, что она радуется его несчастью.
— Одно дело, когда с разрешения, а другое дело, когда… — Он не договорил, не стал уточнять, имея в виду свою вину перед сыном.
Ксения хмыкнула, а он вдруг посмотрел на нее невидящим взглядом, вспомнил все отношения — и сделалось необъяснимо погано на душе от ее привычки беспричинно хихикать. И ладно бы если по-настоящему рассмеялась: открыто и радостно, если случай подобает, а то хихикнет и затаится. Разреши ей, она и сейчас бы заверещала. И представив это, он вдруг понял, как ненавидит ее — обрюзгшую, липкую от пота. Никогда не думал, что перемена в отношениях может произойти в одно мгновение, но у него это случилось. И неспроста. Он вдруг понял, что она явилась наказанием за его прошлое отношение. Не надо было обращать на нее внимания в магазине, а уйти в тот раз или отвернуться, не заметить, как не замечают пустое место. Подумав об этом, он сразу посмотрел на нее с плохо скрываемым презрением.
Она это поняла, но промолчала, не стала обострять разговора, догадываясь, из-за чего ушел из дома сын Александра. Но когда Шурыгин, вздохнув, отвернулся, она впервые почувствовала злорадство, вспомнив себя и его, из-за которого теперь не может иметь детей. Она даже согласилась бы на такого взбалмошного ребенка, как у него. У нее бы он не убегал, она бы и на секунду не оставляла его одного. А то ведь он привык бегать из-за одиночества. У какого ребенка хватит выдержки ждать отца две недели, если мать, как рассказывал Шурыгин, выражая недовольство, днями пропадала на работе, а после спешила в народный театр. А у их театра только название громкое, а так сплошная самодеятельность, но жене его об этом не скажи, а кто осмеливался — навсегда враг. Александр даже и о бабушках рассказал. Они еще те у его сына: суетливые, назойливые — либо закормят, либо заучат, а настоящей пользы от них почти никакой, если норовят все делать по-своему, будто соревнуясь друг перед дружкой, особенно теща, работавшая прежде бухгалтером, а теперь билетером в кинотеатре, поэтому днем почти всегда свободная.
После известия о пропаже сына Шурыгин не стал долго пререкаться с Ксенией, сразу же поговорил со знакомым полицейским, с которым когда-то учился в школе, объяснил ситуацию, и майор успокоил:
— Не переживай, Санек! Парень твой нормальный, никогда ни в чем не замечен, приводов не имеет. Оголодает — сам вернется.
— В том и дело, что ни в чем не был замечен. На таких олухов все и сваливают. Попадет в историю, потом попробуй исправь.
— Все пучком будет. Заявление от твоей приняли, завтра в розыск его объявим, но ты и сам по городу поищи, все равно ведь мотаешься из конца в конец. В автоколонне объявление повесь, извести водил о пропавшем сыне, приметы сообщи, фотографию размножь. С волонтерами свяжись. Обязательно где-нибудь отыщется. Уж поверь мне.
Шурыгин только вздохнул.
Из-за одолевшей паники он сутки мотался по городу, изучил все подозрительные места вокруг вокзала, переговорил с бродягами, оставил им номер своего мобильного, дал денег, чтобы позвонили, сообщили о белобрысом парнишке в цветастой куртке. Несколько раз говорил с Полиной, но и у той никаких новостей — лишь слезы. Шурыгин всегда считал, что она не особенно любит Павлика, но теперь понял, что это не так, если любой разговор заканчивала укором: «Ну, что ты за отец такой, если сына найти не можешь!» Даже как-то заехал к ней, чтобы обсудить дальнейшие поиски. В прихожую зашел и не узнал Полину. Она и прежде не отличалась упитанностью, а теперь совсем превратилась в тень, лишь глаза зареванные округлились и смотрят до невозможности укорительно.
— Ну и зачем явился? — спросила, не глядя в глаза.
— О сыне поговорить… Я вот о чем подумал: может, его девчонка в курсе. Ведь знаешь, какие они в этом возрасте скрытные. Видел его несколько раз с одной из нашего подъезда — с короткой стрижкой такая, чернявенькая, на пятом этаже, кажется, живет. Сходила бы к ней, может, что-то знает о Павлике.
— Об этом мог бы и по телефону попросить. Да и при чем она, если Паша меня заподозрил в измене… Видишь, сумка стоит? Двоюродный брат с женой на днях из Украины приехали работу искать… Несколько дней у нас помотались, а теперь в Воронеж отправились. Если ничего и там не найдут — в Москву поедут.
— Брат-то при чем?
— При том… Паша увидел его в коридоре и подумал, что я чужого мужчину привела тебе назло, вот и сбежал. Да еще обозвал, как последнюю… — Она не договорила, закрыла лицо руками, зарыдала.
— Что же не разъяснила-то?
— Он и слушать не захотел. Рюкзак с учебниками бросил — и сразу за порог. Сказать ничего не успела.
— Да, закавыка… Ладно, успокойся — у нас теперь общая забота! — Он попытался обнять жену, утешить, но она оттолкнула:
— Не прикасайся гадкими руками… Когда зимние вещи заберешь?
— Заберу-заберу — не переживай… — сразу осекся он, хотел сказать, что до последнего времени был верен ей, но понял, что сейчас бессмысленно говорить об этом. Развернулся, торопливо шагнул к двери, ничего более не сказав от досады.
Перепалка с женой настроения не улучшила, но дала понять, что и Полина переживает о сыне всерьез. Оказывается, еще что-то шевелится материнское в ее театральной душе. Шурыгин всегда думал, что у жены на первом месте самодеятельность и свихнувшиеся тетки с их косматым престарелым режиссером, мнящим себя, как он говорил, небожителем. Иногда собирались у них на квартире — расфуфыренные, в невообразимых одеждах, — и тогда они с сыном брали удочки и шли на Сосну или отправлялись гонять мяч на спортивную площадку.
После разговора с женой Шурыгину стало не до Ксении. Даже более того: она сделалась окончательно неприятной, особенно после того, когда у нее появились сигареты. Он отмалчивался, как мог, скрывал чувства, но как их утаишь, если они без слов понятны. А на работе и вовсе с ней о личном ни гугу. Она же из вредности стала давать заказы самые мелкие и невыгодные, а он как будто не замечал ничего: молча зайдет в диспетчерскую, возьмет путевку, заказы, если есть, — и прощай до конца смены. На всю эту мелочность Александр не обращал внимания. В эти дни одна терзала забота: где отыскать сына? Уж весь город, казалось, прочесал, чуть ли не во всех подъездах побывал — никакого толку. С одноклассниками его разговаривал, с директором школы, волонтеров замучил звонками. К кому еще обратиться — не знал. Ведь всю страну не охватишь. Оставалось ждать и надеяться. Но хорошо ждать, когда знаешь, что встреча состоится, а вот как быть, если сплошная неизвестность. Волком выть?
Прошло несколько тягомотных дней, и Шурыгин вдруг испуганно понял, что привык к поискам и ожиданию, отупел от него. Оно стало привычным состоянием и почти не волновало, словно история с сыном должна разрешиться сама собой или с чьей-то посторонней помощью. А вот каким конкретно образом — это оставалось загадкой. Поэтому пустил розыски на самотек, хотя продолжал по инерции присматриваться к прохожим, расспрашивать водителей автобусов. Всем показывал фотографию сына, но все впустую.
Вскоре похолодало, иногда шел снег, и где мог скрываться в такую погоду Павел? Где? Из полиции тоже никаких новостей. Позвонил приятелю, но тот как о нестоящем:
— Потерпи, потерпи. Людей годами ищут.
— Вот спасибо, дорогой друг, вот обрадовал! — не сдержав досады, подначил Шурыгин. Он и прежде-то относился к нему, у которого главным в жизни было желание получить очередную звездочку на погоны, насмешливо, а теперь и вовсе потерял уважение.
А тут еще собственная мать, узнав от Полины об исчезновении внука и о том, что Александр ушел от нее, закатила истерику, попросила немедленно приехать, сославшись на боли в сердце, а когда он, все бросив, примчался, устроила показательную взбучку.
— И где же ты, милок, гнездышко новое свил? Кто же она, что сына вынудил скитаться из-за нее? — подступила она к Шурыгину, забыв о болячках.
— Мам, не бросал я его и никогда не брошу, потому что люблю всех сильней на свете. Все случайно приключилось.
— Такие дела случайными не бывают. В общем, так: пока дело далеко не зашло, возвращайся к Полине, вместе сына ищите.
— Был, не нужен ей стал… Брезгует.
— Простит, если к нам жить переберешься, пусть и не сразу. А ту змею-разлучницу, какая пригрела тебя, забудь, пока не поздно! Чтобы нога к ней не ступала!..
— Что, достукался? — устало укорил вышедший из спальни на разговор отец, совсем поседевший за последнее время; он сердито посмотрел из-под густых бровей.
— Что вы всем скопом навалились… Ладно, подумаю… — Это все, что мог сказать родителям Шурыгин. Хотел забыть разговор с ними и не обижаться на стариков, но их нагоняй все равно не прошел впустую.
Отношения с Ксенией вскоре окончательно разладились, и теперь он только ждал момента, чтобы рассчитаться из автоколонны и вернуться в охранники. Уж лучше так, чем неволить себя. В какой-то вечер сказал ей об этом, даже попросил прощения, что взбаламутил, но она совсем не удивилась, лишь зябко повела широкими покатыми плечами:
— Ты как был скотиной, так ею и остался. Уходи — держать не буду! — и завернулась от него в одеяло.
«Вот дожил до чего, — подумал он, — обе гонят и видеть не хотят!»
Перебрался на следующий день, хотя чего перебираться-то — сумку собрал и был таков. Правда, сказал на прощание, пытаясь сгладить расставание:
— Нам надо одним пожить. Вот тебе деньги за квартиру — расплатишься с хозяйкой. В случае чего — звони, я буду у родителей.
— И не подумаю, больно нужно.
От ее вредных слов Шурыгину сделалось легко на душе. Значит, не надо объясняться, что-то придумывать, врать. Ушел — и ушел.
Но мысли о сыне не покидали ни на минутку. Он ставил себя на его место, пытаясь воссоздать цепочку его возможных действий и поступков. Мыслями голову забивал, но разве можно все проследить и предугадать, пусть и за сына. Ведь наверняка у него все по-другому, если он и думает не так, как сам думал в его годы. У них на уме был футбол и хоккей, а то, бывало, драки устраивали: улица на улицу, милиция разгоняла. А разве теперешних чем-то заинтересуешь. Вахлаками растут, слова поперек никому не могут сказать. И хорошо, что у него хватало времени заниматься Павликом, учить уму-разуму. За полмесяца они успевали многое: в футбол играли, за грибами ездили, опять же — на реку ходили. Зато другую половину месяца сын проводил под надзором бабушек. Придет из школы — рюкзак под стол, перекусит и за компьютер. Напомнят ему об уроках, а у него один ответ: «Не задавали!» — «Как же так?» — возмутятся они, а если сильно пристанут, то он приврет: «Теперь уроки через компьютер удаленно делают. Совсем отстали от прогресса!»
Они, конечно, жаловались матери, когда она приходила с работы или из театра. Та надоедливо ругала, призывала к совести, а потом усаживала за письменный стол, а он носом в тетрадку начинал клевать, засыпая. Поэтому у Полины и бабушек вся надежда была на него, Шурыгина, — всегда строгого, рассудительного и авторитетного: как сказал, так и сделал.
Но как ни слыл Александр примерным, все-таки недавняя встреча с Ксенией, уход от жены всю его примерную жизнь поломали и все в нем перевернули. Когда же пропал сын, ходил небритый, взъерошенный, к себе наплевательски равнодушный. Если прежде, когда в жизни все ладилось, шагал легко, открыто, словно по проспекту, то теперь, поддаваясь студеному ветру надвигавшейся зимы, будто пугливо вихлял окольной дорогой, постоянно спотыкался, не зная, как свернуть с нее. И это продолжалось до того дня, когда у родителей привел себя в порядок.
В эти же дни договорился с начальником автоколонны, что доработает календарный месяц, хотя надо было бы сразу рассчитаться, чтобы не мелькать перед Ксенией и поскорее забыть ее. Окончательно и навсегда. И Полину забыть, потому что дважды в одну воду не войдешь. Теперь у него осталась только одна забота: сын! Вот кого он любил по-настоящему, и ради него готов на все. Эта внутренняя установка вывела его из недавней меланхолии, когда опускались руки от неопределенности, отсутствия хоть каких-то вестей о Павле.
Мотаясь по городу, Шурыгин постоянно отслеживал прохожих на тротуарах, на автобусных остановках, в иных людных местах, пытаясь не пропустить разноцветную куртку сына. Дважды обманывался. В одном случае оказался молоденький пацанчик, а в другом — кособокая старушка. «Тебе-то зачем молодой рядиться? — подумал он, чуть не поперхнувшись. — Модница выискалась, едрит твою в корень!» Но даже и эти случайные встречи не отбили охоту к поиску, и он превратился в механически озиравшегося робота.
В предпоследнюю смену перед увольнением он в поздний час возвращался в автоколонну и увидел на мосту через Сосну торопливого прохожего, в походке которого виделось много знакомого: левая рука прижата, а правая работала словно маятник. Такая походка была только у сына, только он мог так идти, словно загребая воздух. Вот только смутила непонятная одежка, казавшаяся в ночном освещении серо-грязного цвета, и высокая кепка, в каких прежде ходили старики. И все-таки Шурыгин резко затормозил, заскользив по наледи, остановил машину, хотя на мостах запрещено останавливаться, и подбежал к шарахнувшемуся от него человеку.
— Стой же, стой! — отчаянно закричал Александр, узнав сына, еле догнав его и ухватив за широченную куртку. — Пашка, это я — твой отец!
Отдышавшись, Александр прижал сына к парапету, попытался посмотреть ему в глаза, но тот лишь отворачивался и вырывался. А когда, повернувшись, выкрикнул: «Отстань, все равно домой не пойду!», Шурыгин увидел, что у сына подбит левый глаз, и от этого стало еще жальче его.
— Погоди, не ерепенься! Не хочешь домой, поедем к бабушке! Ведь мы все ночи не спим, весь город по десять раз прочесали, а ты как растворился!
— В Липе неделю был, зря старались…
— Ну и чего в Липецке забыл? Это там под раздачу попал и куртки лишился?
— Да… Пацаны местные бортанули.
Через силу, исподлобья косясь, Павел будто цедил слова, и Шурыгин не знал, как успокоить его, заговорить нормальным языком.
— Чего не звонил-то?
— Телефон отняли… Но даже если и не отняли бы, все равно звонить не стал. Ты и мать — предатели. Оба бросили меня!
Неожиданно Павел вырвался и пустился наутек, но бежал, неуклюже прихрамывая, поэтому остановился, почувствовав, что отец догоняет.
— Стой! — истерично выкрикнул сын, не подпуская его к себе. — Если подойдешь, в реку сброшусь!
Угроза прозвучала так отчаянно, что Александра обожгла мысль: «А ведь действительно сбросится… Тогда все…» И он замер в нескольких шагах, стараясь не провоцировать сына опрометчивым движением, успокоить его, понимая, что в этот момент все может произойти от случайного неуклюжего слова.
— Ладно, не подойду, только выслушай меня… — обиженно попросил Шурыгин и замялся. — Ты дуешься на нас, но это правильно лишь наполовину. О матери ты зря плохо подумал… К ней брат с женой приезжал из Украины — работу они искали, не нашли и дальше поехали. Вместо того чтобы поговорить и что-то выяснить, ты фыркнул, сделал по-своему… Ладно, у тебя на меня обида, но мать с бабушками и дедом при чем? Или ты только о себе думаешь? Если считаешь, что такой безгрешный и умный, то продолжай скитаться, мне более нечего тебе сказать! — выкрикнул Александр срывающимся голосом.
Чувствуя, как от обиды глаза застилают слезы, а более от своего неумения повлиять на сына, хоть как-то уговорить, он резко повернулся и пошел к машине на ватных ногах, понимая, что проиграл, что зря старался, и не знал, что теперь делать. Хотел вернуться, еще раз поговорить с сыном, убедить его, но почти у капота услышал сзади топот, оглянулся — а это Павел совсем рядом… Подбежал, ткнулся в грудь, вздохнул и посмотрел в глаза, жалобно попросил:
— Прости, пап! Я все понял! — и совсем по-детски заревел.
От его признания и слез Шурыгин онемел, крепче прижал к себе сына и долго стоял с ним в обнимку, чувствуя, как он весь дрожит. Когда они более или менее успокоились, Шурыгин твердо сказал:
— Садись в машину, к матери отвезу! Хватит, набегался!
И сын покорно согласился, а Шурыгин все еще не верил в этот счастливый случай, когда все разрешилось столь неожиданно просто.
Пока ехали, Павел во все глаза смотрел на отца. Хотел что-то сказать и не решался. Только у самого подъезда, когда Александр спросил «сам дойдешь?», он сказал:
— Пойдем вместе, пап, пожалуйста!
Александр замялся:
— Не могу. Я ведь теперь у родителей живу…
— Как хочешь, — не стал настаивать сын, укоризненно посмотрев. — Все равно спасибо, что нашел меня!
Он, оглядываясь, направился к подъезду, а Шурыгин смотрел ему вслед, все еще переживая и волнуясь. Но вот Павел у двери остановился и быстро вернулся, твердо сказал в открытое окно, как приказал:
— Пошли, тебе говорю! Я мамке все объясню. Она поймет — вот увидишь!
— Как же это… — растерялся Александр, не ожидая от сына такого напора, и засомневался в себе, но лишь на малое время; тотчас душа его распустилась, и он не посмел ослушаться, радуясь за Павла, за себя и за тех людей, кто в этот поздний час возвращался с окольных дорог.
ОЖИДАНИЕ СЧАСТЬЯ
Настя Свиязова познакомилась с Алексеем полгода назад в картинной галерее, где была с мамой. Мама отстала, а они остановилась у очередного живописного полотна, обменялись взглядами и чуть не рассмеялись от взаимной схожести. И более не расставались, понимая, что их свела судьба. Выглядели они действительно как близнецы: высокие, стройные, с удивительно светлыми, словно льняными, слегка волнистыми волосами, оба синеглазые, чертами лица похожие. Никто потом не верил, что они — не брат и сестра, и в шутку говорили, что от них пойдет новая порода.
Но все прогнозы не сбылись из-за неудержимой ревности, когда Настя поссорилась и рассталась с Алексеем, опоздавшим на свидание. Не дождавшись его, она решила вернуться домой, но увидела у метро, как он мило разговаривает с крашеной девахой. Заметив Настю, Алексей не сразу подбежал к ней, а когда запоздало спохватился — она уже не могла смотреть в его сторону. Поэтому все его бестолковые и смешные объяснения, что, мол, встретил одноклассницу, она демонстративно отвергла. Ничего подобного за Настей прежде не наблюдалось, все говорили, что они созданы друг для друга. И вот такой поворот. Более всего было обидно оттого, что именно сегодня она хотела сообщить о своей беременности. Поэтому, до конца не выслушав Алексея, чтобы не расплакаться, юркнула в метро, а когда он попытался догнать, осекла:
— Перестань ходить за мной!
Прошло всего два дня, и она пошла на свидание с Максимом. Они жили в соседних домах и учились в одной школе. Потом она поступила в университет, а он выучился на механика — осуществил мечту, с детства занимаясь мопедами, мотоциклами — всем тем, что было с мотором и на колесах. И почему-то всегда стригся под ноль, что делало его еще более похожим на увесистый камень-голыш. Несколько лет, наверное, не виделись, а тут случайно встретились, разговорились. Вернее, она сама заметила его на другой стороне улицы, перебежала ее, споткнувшись о поребрик, и, поздоровавшись, нахально спросила:
— Что завтра вечером делаешь?
— Пока не решил.
— Рванем в киношку?!
Она знала, что поступает назло Алексею, даже назначила свидание недалеко от его места работы, заканчивая свою на полчаса раньше, и этого полчаса вполне хватало, чтобы «засветиться» с новым поклонником. И Алексей действительно увидел их вместе, но прошел мимо, не показав ни ревности, ни хоть какого-то малюсенького внимания. «Ах, так! — обиделась она. — Значит, ты только и ждал случая, искал причину, чтобы расстаться. Значит, теперь не нужна стала?» От размышлений, не проходившего волнения она даже не запомнила содержание фильма, а когда ехали домой, согласилась зайти к Максиму попить чаю.
— Идем наверстывать то, что в школе не успели?! — глядя в глаза, нахально спросил он, когда зашли в лифт.
Хотя откровение остудило, но все равно с Максимом ей было легко. Наверное, потому что знала его давным-давно. От этого и разговор шел как по маслу. К тому же им никто не мешал — его родители, оказалось, уехали в отпуск, и это удачное обстоятельство раскрепостило Настю. Она даже немного выпила вина, после которого посмотрела на Максима совсем по-иному. Как — она и сама не знала, но Максим ее понял по-своему и уговорил остаться, пообещав, что ничем не обидит. Она позвонила маме, сказав, что заночует у подруги. Позвонила и поняла, что делает что-то не так — скверно, обидно, прежде всего, для самой себя.
Настя хотя и ночевала у Максима, но спали они в разных комнатах, и как он ни пытался перебраться к ней, она не позволила. В конце концов, он рявкнул от обиды:
— А зачем тогда притащилась? На нервах играть?
— Могу уйти.
— Не валяй дурака, спи. Дождь на улице, — окончательно расстроился он и сердито хлопнул дверью.
Была мысль действительно уйти самой, но что скажет дома: «подруга» не приняла? Поэтому долго не могла заснуть, ругая себя и нехорошо вспоминая Алексея, из-за которого и попала в это дурацкое положение. Не спалось еще из-за того, что обманула маму, хотя никогда прежде не обманывала — пугливую, светящуюся чистотой. Ее звали Галиной, но Настя называла мамой Галей, как будто была какая-то другая мама. Но так уж с детства привыкла.
Мама Галя, конечно, все высказала на следующий день, быть может, впервые засомневавшись в честности дочери.
— Даже если не у подруги — что это меняет. Я вполне взрослая, мне двадцать четыре, окончила университет, работаю, теперь и личную жизнь пора устраивать. Ты против этого? — прямо спросила Настя.
— А что отцу обещала перед его рейсом? Забыла?
— Нет, не забыла. Обещала, что дождемся его из плавания и тогда распишемся с Алексеем.
— Ну и что ты теперь скажешь ему?
— Скажу что-нибудь…
— А он вчера, между прочим, звонил, хотел с тобой поговорить, но ты же у «подруги» гостила! Да так крепко гостила, что даже мобильный отключила.
Настин отец с молодости ходил на судах торгового флота, дослужился до старпома — это хорошо, но что подолгу не бывал дома — это всегда навевало грусть. Но все к этому привыкли: и жена, и дочь. Научились терпеть, только всякий раз очень скучали. И вот теперь, услышав про отца, Настя перепугалась и попыталась узнать правду:
— Так и доложила?
— Зачем волновать, если ему еще два месяца по океанам болтаться. Сказала, что на концерт с Алексеем пошла. А ты, видно, куда-то по другому адресу завернула. Подруга какая-то появилась! Или все-таки у Алексея была?
— Поссорились мы с ним.
— А зря. Мне он очень нравится: приятный внешностью, обходительный, умный. Из-за чего ссора-то?
— Не знаю.
— Так не бывает. То полгода глаза друг с друга не сводили, а то сразу «не знаю». А ты обязана знать, если считаешься невестой! Чего молчишь?
Мама Галя могла говорить на тему взаимного уважения и доверия бесконечно, приводя веские, как ей казалось, доводы, но Настя словно окаменела. Да и что она могла сказать, если самой сделалось не по себе. Ведь к этому время обида на Алексея прошла, ей очень хотелось знать, вспоминает ли, думает ли он о ней. А тут еще нотации читают. И Настя своим молчанием показала к ним небрежение. Тогда и мама Галя перестала обращать внимание, а Насте очень хотелось, чтобы она выслушала ее по-настоящему, пожалела без лишних слов, прижала к себе. Ей и этого бы хватило, чтобы ощутить тепло и внимание. Но мама Галя неожиданно холодно сказала, когда дочь наревелась:
— Ужин сама разогреешь!
— Не хочу… — отговорилась Настя и почувствовала, что от упоминания о еде ее замутило. Она знала, что на ранних сроках часто бывает тошнота, слабость и подумала: «Неужели и у меня началось?»
Это состояние стало мучить постоянно, и Настя понимала, что совсем скоро ей придется объясняться перед мамой Галей, потом перед отцом. И что она им скажет. Особенно отцу. Он, конечно, понятливый, поворчит-поворчит и перестанет, хотя сперва перца задаст — в этом и сомневаться не надо. «Что, — спросит, нахмурив мохнатые соломенные брови, — только отец за порог, и мать сразу не указ?!» И что ответить ему, как объяснить, что полгода встреч с Алексеем что-то да значат. Если сперва ни о чем не задумывались, то потом стали мечтать о свадьбе. Даже договорились, что подадут заявку на начало сентября — на то время, когда вернется из плавания ее отец.
Но теперь она ничего не могла сказать определенного, ходила по привычке в коммерческую фирму, где работала экономистом и где ей совсем не нравилось, возвращалась домой — и все одна и одна. Как-то встретила Максима, но он равнодушно прошел мимо, даже не попытался заговорить. Это и хорошо. Зачем он ей, если она по-прежнему ждет Алексея, хотя и не знает, что надо сделать, чтобы он простил ей глупую ревность.
От тоскливых мыслей, переживаний она не знала, как жить дальше. Исхудала, пожелтела, даже позеленела. Когда в очередной раз собрались вечером и Настя побежала при маме Гале в ванную с приступом тошноты, она это заметила, а едва дочь отдышалась, твердо сказала:
— Я давно догадывалась! Ты беременна?
— Да…
— И кто же он, будущий папаша?
— Алексей, кто же еще.
Мама Галя округлила и без того большие глаза, прихлопнула ладошками:
— Батюшки мои, что творится-то! И где же он, твой Алешенька? Что-то давно не видно. Или испугался?
— Ничего не испугался. Это я виновата — приревновала его зачем-то.
— Ревность — это полбеды в твоем положении, как бы что-то другое не было поводом. У «подруги» ночевала в отместку, что ли?
Настя промолчала, проглотила слезы и, закрывшись в комнате, рухнула на кровать и отвернулась к стене, готовая разреветься. И хорошо, что мама Галя более не стала донимать вопросами. Зачем они, чем помогут в такой момент, когда она сама не знала, как быть, что далее делать. Поэтому пустила все на самотек и в этот вечер, и во все последующие дни.
К середине августа Насте полегчало, хотя она и замечала в себе значительные перемены: чувствовала, как увеличились груди, уплотнился живот, ей даже казалось, что она поправилась, хотя постоянно переживала. По совету мамы Гали она встала на учет в консультации — чего уж таиться, если вот-вот всем все будет очевидно, и более или менее успокоилась, стала воспринимать беременность и расставание с Алексеем как состоявшийся факт. Значит, ей на роду написано испытать такие переживания. Хотя и догадывалась, что они по-настоящему начнутся, когда вернется из плавания отец. Если с мамой можно поговорить доверительно, по-свойски, даже теперь на равных, то отец не будет сюсюкаться, а что-нибудь сказанет — будто кипятком ошпарит.
Но через некоторое время она и с этим смирилась и подзабыла о надвигающихся событиях. Зато не забыла об Алексее, о том, что он ходит где-то рядом, быть может, ездит в одном вагоне метро. Настя иногда вглядывалась в пассажиров, пытаясь в толпе разглядеть шевелюру Алексея, но так и не увидела. Была мысль позвонить, но это было выше сил. Ему бы самому догадаться, проявить находчивость и вспомнить о ней, и она попросила бы тогда извинения. И сделала бы это легко, если ее ревность теперь казалась незначительным, даже смешным эпизодом, а поведение Алексея — поведением невинного голубя. Но как теперь свои мысли и переживания донести до него. Как?
Она не находила ответа, но однажды решила съездить к его работе, дождаться, когда он выйдет из дверей научного института, где работал в конструкторском отделе. Что будет потом — не представляла: то ли он подойдет и возьмет за руку, посмотрит в глаза, то ли она сама издали понаблюдает за ним и этим утешится, а то уж месяц не видела. Конечно, она могла в любой момент позвонить, но было невозможно стыдно, и она не знала, как победить этот стыд, особенно, когда вспоминала Максима. Надеялась, что Алексей никогда не узнает об этом, просто было желание сделать назло. И в кино ходила назло. Мол, тебя ждала, дорогой Алеша, а ты даже не позвонил. И теперь не думаешь звонить. А как мне жить, когда очень-очень хочется поделиться новостью, тебе небезразличной.
Так она себя накрутила, так воспарила в мыслях, пока ехала к нему, хотя ехать-то всего две остановки на метро. Она приглядела место недалеко от его института, встала за деревом и почувствовала, как колотится сердце. И вот он вышел — родной, любимый, замелькал красной ветровкой, и цвет ее замечательно смотрелся с льняными кудрями. Он шел к метро, и они волновались в такт шагам. Прежде чем завернуть за угол, Алексей оглянулся, словно кого-то искал. Настя к этому время покинула место засады, и он вполне мог увидеть ее, но, значит, не увидел. Иначе бы подошел. Немного постояв, она тоже поплелась к метро — расстроенная, еле живая, но все-таки надеясь, что они когда-нибудь обязательно увидятся и помирятся.
Настя всю неделю ездила к его работе, наблюдала за ним издали, и всякий раз она не могла переломить себя и подойти, что-то сказать. Уж чего, казалось бы, проще: окликни, покажись! Но где взять сил, и она решила, что не суждено ей дождаться этого радостного мгновения — теперь ее удел заботиться о ребенке и о самой себе.
Но в понедельник вновь поехала на знакомое место, присела на лавочку и достала книгу. Делала вид, будто читает, а сама поглядывала на двери. В какой-то момент не поняла, что произошло, когда кто-то напал сзади и закрыл ладонями глаза. Она вырвалась и… увидела белозубо улыбающегося Алексея.
— Пройдемте, гражданка Свиязова, вы задержаны! — сказал он строго, будто полицейский: — Шпионите за мной!
Она поднялась, не зная, что сказать Алексею, лишь ткнулась ему в плечо и неожиданно расплакалась. Алексей молчал, а она, промокнув платочком слезы, спросила:
— Откуда появился-то?
— Оттуда, — указал куда-то за угол здания… — Еще на прошлой неделе заметил тебя. Думал, сама подойдешь. Все выходные ждал звонка, а потом решил: если в понедельник не придешь — позвоню. А сегодня выглянул перед уходом в окошко — ты опять на посту. Почему-то сразу захотелось разыграть, и вышел через другую проходную… Ну, а теперь рассказывай! — попросил он и вздохнул.
— Чего рассказывать-то, поехали домой. Мама Галя вскоре с работы вернется.
— Тогда надо торт купить. Чего же с пустыми руками являться.
— Около дома и купим. У нас всегда свежие.
Так и сделали: вышли на «Выборгской», заглянули в магазин, выбрали шоколадный бисквит. Потом — домой. Когда оказались в парадном, остановились и долго-долго целовались.
Дома Настя принялась расставлять тарелки, разогревать суп и котлеты, а тут звонок в дверь. Открыла — на пороге мама Галя. Взглянув на постороннюю обувь, сразу спросила:
— Ты не одна?
— Алешу пригласила…
Мама Галя улыбнулась и подняла вверх большой палец, приглушенно спросила:
— Хотя бы накормила гостя?
— Разогреваю… Мой руки — вместе поужинаем.
Собирая на стол, Настя раскраснелась, ловко суетилась в кухне, а когда все расставила, позвала:
— Ну, что, друзья, кушать подано! — и радостно взглянула на Алексея.
Смотрела и потом во все глаза, и чувствовала, как славно делается на душе, когда рядом тот, о ком долго переживала, тосковала и даже страдала. Оказалось, чтобы прекратить эти мучения, всего-то надо первой подойти, перебороть себя. И тогда сразу забудутся все печали, все плохое, что иной раз натворишь при затмении ума. Понятно, что это затмение быстро не пройдет, еще долго будет тяготить душу. И оставалось лишь сожалеть, что былые ошибки очень сложно исправить.
Поужинав, Алексей пробыл у Насти весь вечер, а когда собрался домой, она проводила до лифта и поцеловала:
— Звони!
Вернувшись в квартиру, Настя опустилась на диван, задумалась, вспоминая встречу с Алексеем, разговор с ним, его взгляды, улыбки, поцелуи. Казалось, что они и не расставались.
Подошла мама Галя, спросила:
— Рассказала о ребенке?
— Не успела, да и не хотелось ошарашивать.
Она не стала жаловаться и объяснять, как будет тяжело сказать, пусть и радостную новость. Услышав ее, Алексей может подумать, что она нашла его вновь только из-за этого. Ну, так и есть — из-за этого, конечно, а еще из-за него самого, понимая, что с ним ребенок принесет двойную радость.
Настя рассказала о нем в конце недели, усадив Алексея на той самой лавочке, где теперь всегда дожидалась его.
— Не знаю, как отнесешься к новости, но хочу тебе сказать, что жду ребенка! — и напряженно посмотрела ему в глаза, ожидая реакции.
— Серьезно?! А чего же раньше молчала?
— Ты же пропал!
Алексей прижал ее к себе, поцеловал и спросил:
— Мама знает?
— Конечно.
— Ну, и хорошо. Сегодня своим родителям скажу. Когда заявление подадим?
— Подать-то недолго, но прежде надо папу известить.
Выйдя через несколько дней на связь с мужем, все рассказав и получив от него «добро», мама Галя сама погнала молодых в загс:
— Хватит за ручку ходить. Папа через три недели приходит, надо так подгадать, чтобы и он попал на свадьбу.
Они подали заявление и продолжали чувствовать себя настоящими влюбленными, жившими ожиданием большого счастья. Встречались каждый день, поэтому мама Галя как-то сказала Алексею, когда он, поужинав, собрался домой:
— Оставайся, Леша, у нас. Только своим позвони, чтобы не волновались.
Через три недели они накупили цветов и втроем поехали в Морской порт встречать старшего Свиязова. К этому дню похолодало, с залива хлестал сердитый ветер, но настроения он не портил. Настя надела кофту, ветровку цвета морской волны, скрывшую слегка выпиравший животик, — в такой одежде любой ветер не страшен. Мама Галя, работавшая в порту бухгалтером, накануне навела справки и знала точное время прибытия теплохода, она выглядела именинницей в приталенном бежевом плаще и легко развевающемся на шее сиреневом платке. Алексей был в темно-синем костюме, словно под цвет глаз, и выглядел настоящим женихом. Они шли к причалу, а над ними кувыркались светло-серые чайки, мелькая красными клювами и лапками.
Увидев магазин, Настя попросила:
— Подождите, забегу на минутку!
Вернулась она с булкой.
— Это-то зачем? — удивилась мама Галя.
— Пока теплоход пришвартуется, пока то да се — будем с Лешкой чаек кормить. У них ведь сегодня тоже праздник! — с настроением сказала Настя и широко улыбнулась.
Владимир Дмитриевич Пронский (Смирнов) родился в 1949 году в городе Пронске Рязанской области. Работал токарем, водителем, корреспондентом, редактором региональных СМИ. Публиковался в журналах «Подъём», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва», «Север», «Странник», «Берега» и др., в литературных изданиях, коллективных сборниках, альманахах ближнего и дальнего зарубежья. Автор 8 романов, многих повестей и рассказов. Лауреат премии имени А.С. Пушкина, Международной литературной премии им. А. Платонова, премий нескольких литературных журналов. Секретарь Союза писателей России. Живет в Москве.







