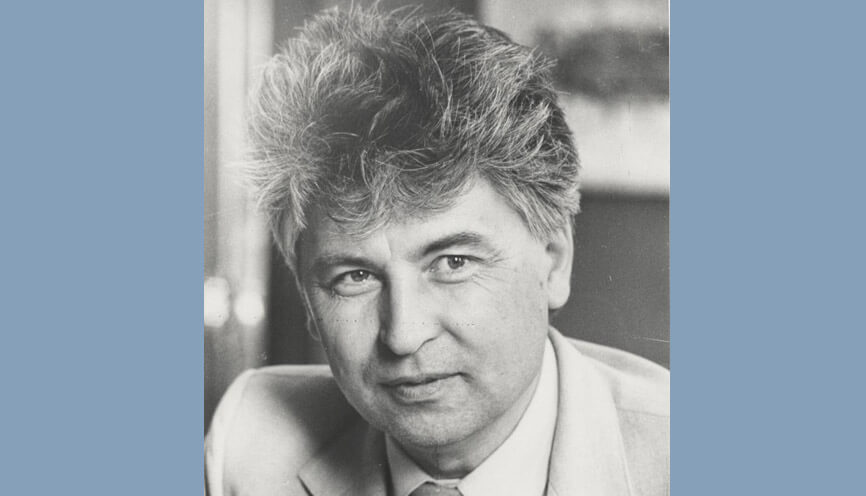Бабушка Тодося
- 07.10.2021
Берёзы в низине за немецким кладбищем пожелтели, но луга ещё сохранили по-летнему сочную зелень. В конце лета зарядили дожди — косые, холодные, выматывающие душу. Пятое сентября стало первым ясным днём за несколько недель. Солнце — яркое, будто умытое — показалось на горизонте. Воздух над большаком взбурлил, закипая.
Бабушка Тодося лежала на дворе. Тёплые лучи солнца, прощаясь, гладили её спокойное холодное лицо. Папа — в шерстяном костюме и остроносых городских ботинках — примостился на завалинке и дымил сигаретой. На лбу у него собрались крупные капельки пота, руки бессильно повисли между колен.
Я сидела на качелях, потея в чёрном школьном платье. Когда я отталкивалась от земли носком туфли, верёвки скрипели, и, закрыв глаза, я представляла, что бабушка Тодося не лежит на атласной подушке — белое на белом, а гремит ведром в сенях или варит на кухне жирные щи.
— Какая погодка-то стоит! — скрипучий голос вырвал меня из воспоминаний. — Все потому, что не кого-нибудь, а Тодосеньку сегодня провожаем…
За забором, наклонившись вперёд, словно собралась его переползти, стояла баба Тоня Оралиха, первая ненавистница бабушки Тодоси.
— Здравствуйте, баб-Тонь, — равнодушно поздоровался папа.
Я тоже кивнула. Оловянные глаза Оралихи — левый полуприкрыт после инсульта — скользнули по моему платью, ища изъян.
— Отпевание через час, — с нажимом сказала мама, аккуратно спускаясь с крыльца.
На ней было узкое чёрное платье, совсем не для похорон, надо лбом козырьком нависал грубый темный платок из бабушкиного шифоньера. В деревне её, городскую, терпеть не могли, и она платила той же монетой.
Оралиха кивнула, постояла ещё некоторое время, ожидая, не пригласит ли ее зайти бесстыжая Тодосина невестка, но мама демонстративно ушла в дом. Её каблуки впивались в дощатый пол, как гвозди.
Бабушку Тодосю не несли на плечах, как полагалось раньше, а катили на тележке — мужиков в деревне, кроме папы да пьяницы Василия, считай, не осталось. Деда Слепня и деда Мишаню в расчёт не брали. Тележка скрипела. Мамины каблуки вязли в земле. Оралиха и Слепниха перешёптывались, не спуская с нас глаз. Папу пригибало к земле — с каждым шагом все больше — будто он нёс на плече невидимый гроб.
У часовни все остановились, как по команде. Усталый батюшка, которого утром привезли из Кулебятово, вышел на паперть и, подозвав папу, о чём-то тихо заговорил с ним.
Отпевания я почти не помню. В часовне даже сладкий ладан не мог перебить запах подвальной сырости. Оплывшие, грубо поновлённые лики на стенах смотрели с укором. Свечи гасли от сквозняка. Я знала, что где-то там наверху, у покосившегося креста, спят летучие мыши. Свет из-под купола сочился на спокойное лицо бабушки Тодоси. Мне показалось, что она улыбается.
Слева от дороги за околицей теснились взъерошенные могилы: кресты, небрежно размалёванные серебрянкой, вперемешку с жестяными звёздами ползли вверх по склону, словно пытаясь заглянуть за гребень холма. По правую сторону, как солдаты на плацу, торчали аккуратные белые кресты с готическими буквами — немецкое кладбище.
Немцы приехали в село под вечер. Без мотоциклов и грязно-зелёной формы, разумеется, — в куртках и джинсах, с аккуратной сединой. С ними была переводчица — милая, улыбчивая, в коротком платье, из-под которого торчали резинки чулок.
Немцы не требовали, не ругались, не били, не хватали кур за ноги и женщин — за грудь. Но Тодося, увидев их, ощутила отвратительную сосущую пустоту под ложечкой. От одного только звука немецкой речи её зазнобило.
Договорились быстро. Немцы просили разрешить им восстановить кладбище, взамен предлагали деньги. В нетопленом клубе селяне торопливо ставили подписи в бумагах. В конце концов, ничего в этом не было страшного, никого они не предавали… Мертвые немцы и их аккуратные могилы уже не могли никому навредить. Подписали все: и Семён Полуха, про которого говорили, что он рождён от немца, слишком уж белоголовый; и Слепень, что ничего не видел левым глазом после взорвавшейся в костре гранаты; и Фроська, хоть её пятеро братьев не вернулись с войны. Не подписала одна Тодося. К ночи притащилась Оралиха, поскреблась в стекло:
— Слышь, Тодоська, пошла б ты да расписалась. Немцы-то завтра уж отчаливают.
— Не хочу, — слабым голосом отозвалась баба Тодося — у неё страшно болели скрученные артритом пальцы, словно сотню коров выдоила…
— Дура ты, Тодоська. Все подписали. Не форси. Деньги-то лишними не бывают. Положишь к похоронным.
— Уйди, Тоня.
Бабушка Тодося так ничего и не подписала — одна во всём селе осталась без «конпенсации».
Она лежала на остывшей печке, завернувшись в короткое байковое одеяльце, которое подарили на рождение сына. Над стрехой плыли невидимые в ночном небе облака — на запад, туда, где под раскидистым дубом в местечке с окончанием на «-дорф» лежал отец. Она к нему никогда не приезжала, не знала даже, есть ли у него там, под дубом, крест или звезда. Тодося терпеливо ожидала встречи потом.
Это папа придумал ей странное имечко, которое всеми воспринималось чем-то вроде клички. Коренной белорус, мечтая о сыне, он хотел назвать его в честь отца Тодосем. Вместо сына родилась дочь — стала Тодосей.
— Тодоська, — они с Маней бегут к щели, — быстрее!
Бомбежка. Свист. Земля ходит ходуном. Бабка Епистимья лежит в траве и стонет — взрывом её сбросило с крыльца. Тодося хочет бежать к ней и помочь подняться, но подруга хватает за рукав и тащит в огород, к спасительной щели.
— Пусти! — верещит Тодося.
Грохот. Чёрные комья земли летят в лицо. Тодося падает лицом в жирную, недавно потревоженную землю — прямо туда, где мама, собираясь эвакуироваться, закопала швейную машинку. Тодося отфыркивается, как лошадь, пытается встать, но грязь скользит под пальцами, не даёт ухватиться. Когда у неё получается, наконец, подняться на колени, она видит Маню. Подруга неподвижно лежит в грязи — навзничь, раскинув руки в стороны, как распятая. На груди пятно — красное на белом. Не двигается. Совсем. Только волосы раздувает ветром. Страшным горячим ветром, пахнущим металлом и кровью.
Тодося заглядывает в пустые голубые глаза подруги и начинает кричать.
— Что тебе стоило подписать эту бумагу? — спросил папа, расхаживая по комнате из угла в угол — от божницы к фикусу.
— Денег мне достаточно, — ответила бабушка Тодося, поджав губы.
— Дело не в деньгах! Дело в том, что все эти бабы теперь ополчатся на тебя. Просто за то, что ты любишь отличиться.
— Я. Не. Хочу.
Слова бабушки Тодоси падали на клеёнку, увесистые, как пули. Папа замер посередине аккуратного половичка.
— Как хочешь. Хочешь все испортить — порти. Не мне тут жить.
— Не ты их видел. Не тебе решать.
— Папа, бабуля, пожалуйста, не ссорьтесь!.. — я со слезами кинулась на пол между ними.
Бабушка Тодося — располневшая, с распухшими к вечеру ногами — ловко повернулась на табурете и подхватила меня с пола, прижав к тёплому животу.
— Перестань, перестань, ласточка…
Папа вышел на крыльцо, хлопнув дверью.
Я выползла к нему позже, когда бабушка улеглась на пышной кровати, разворошив аккуратную горку подушек. Папа сидел не на завалинке, а на скамейке возле забора. Возле рта мерцал оранжевый огонёк сигареты.
— Не замёрзнешь? — он с сомнением посмотрел на мои голые ноги.
— Нет. Почему бабушка не взяла деньги?
— Принципиальная. Не захотела и не взяла. Сядь с другой стороны, чтобы дым не шёл на тебя.
Я любила запах табачного дыма, смешанный с тёплым летним воздухом, но мама и папа — оба заядлые курильщики — считали его вредным для моего здоровья.
— Ты считаешь, бабушка права?
— Это неважно.
Мы сидели рядом и смотрели на холодные зелёные звезды.
На кладбище пахло палой листвой и грибами, совсем как в лесу. Гроб завинтили ещё в часовне. Пока его опускали в могилу, я смотрела в линялое сентябрьское небо и представляла лицо бабушки.
Дорога между кладбищами курилась пылью. Мама с папой бодро шагали впереди, я тащилась за ними. На маминой ноге над краем туфли сочилась кровью мозоль.
По зеленому лугу бежала стремительная тень — это бабушка Тодося спешила навстречу своему отцу.
Анна Бабина, лауреат VIII Всероссийского фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба» (г. Борисоглебск Воронежской области, 2021 г.)