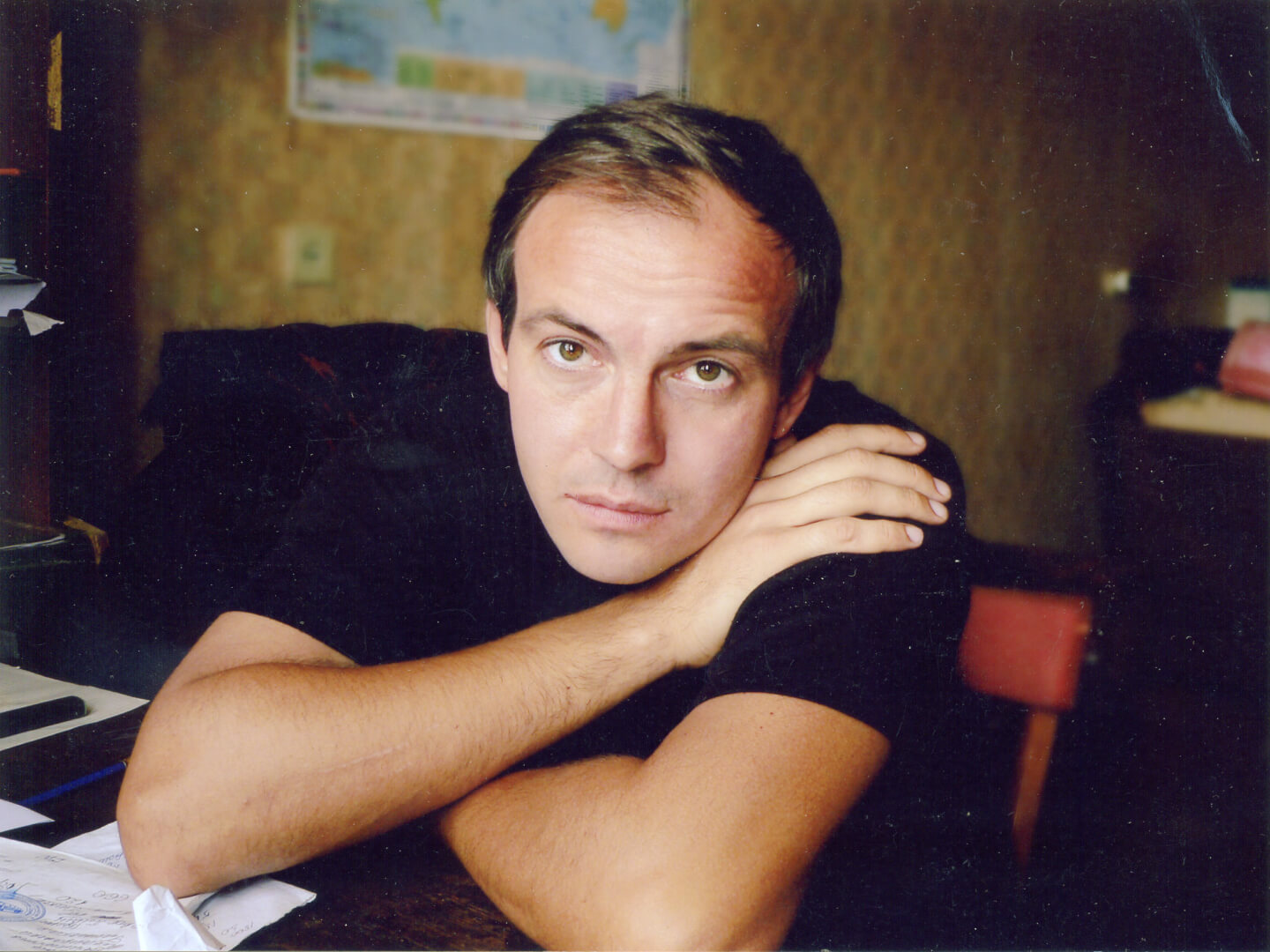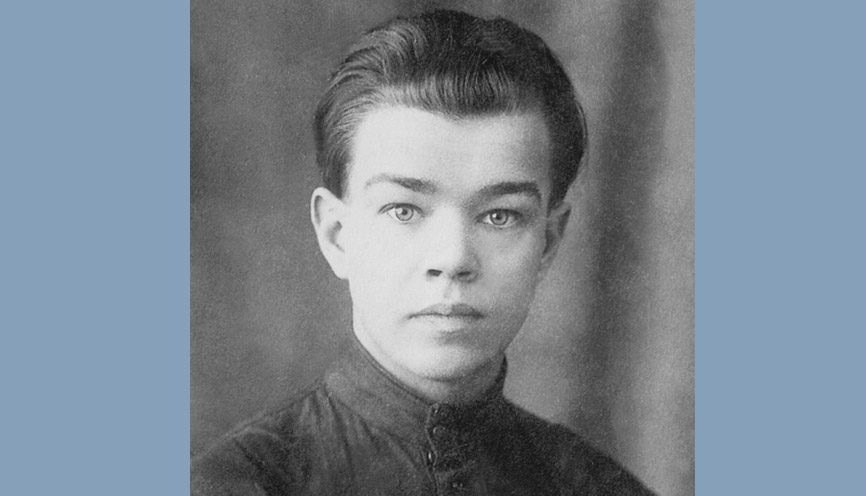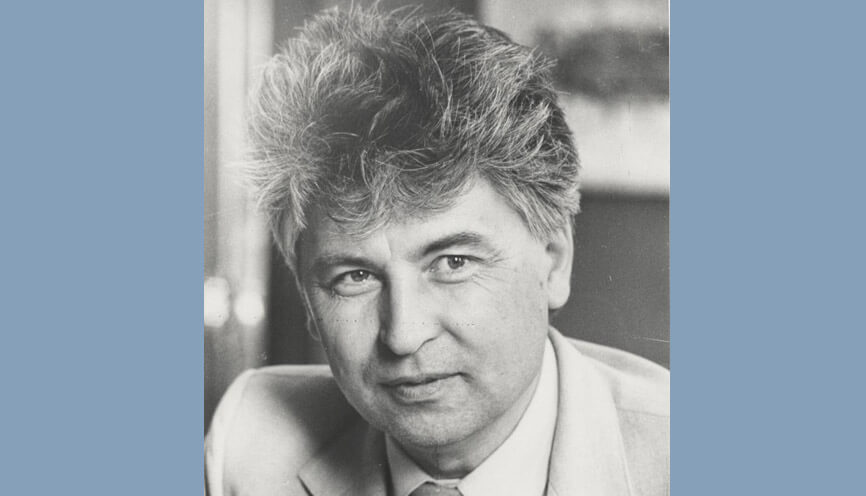СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЛИСТАЯ… (К 300-летию Воронежской губернии)
- 26.03.2025
Формирование административно-территориальной структуры Воронежской губернии. В январе 1725 года скончался Петр Великий. Вскоре после этого скорбного события Азовская губерния, административным центром которой с 1715 года был Воронеж, стала называться Воронежской. Юридически вопрос о переименовании губернии никак не был закреплен. Указ об образовании Воронежской губернии до сих пор не найден и, вероятнее всего, вообще не существовал. Но как объяснить, почему Петр I не изменил название губернии раньше, после передачи Азова туркам? Царь, так и не смирившийся с утратой этой крепости после провального Прутского похода 1711 года, вынашивал замысел третьего Азовского похода, надеясь на реванш. Смерть реформатора не позволила реализовать задуманный план. Все чаще употребляемое документами того времени наименование губернии – Воронежская – в апреле 1725 года, после принятия именного указа Екатерины I новоназначенному губернатору Г.П. Чернышёву, окончательно вытеснило утратившее смысл официальное название «Азовская губерния»[1].
Почти полвека Воронежская губерния состояла из пяти провинций: Бахмутской, Воронежской, Елецкой, Тамбовской и Шацкой. Она занимала обширную территорию, простираясь от восточной Украины на западе до Мордовии на востоке, захватывая на севере земли современной Тульской, а на юге – Ростовской областей.
Провинции делились на уезды, которые, конечно, не совпадали с пределами нынешних районов области. К примеру, Борисоглебский уезд в XVIII веке полностью или частично охватывал четыре современных района Воронежской области, Павловский уезд – шесть. Небольшие города и крепости уездов не имели. К слову, Тавров, по близости к Воронежу, числился в его уезде.
Некоторые населенные пункты Воронежского края являлись центрами особых административных единиц. Так, Острогожск в 1652–1765 годах был главным городом слободского полка. Его черкасское (украинское) население состояло на нерегулярной военной службе. После упразднения полка, созданная на его основе Острогожская провинция, была включена в новую Слободско-Украинскую губернию[2]. Бобровская слобода (затем – село) до обретения статуса города в 1779 году была центром Битюцкой дворцовой волости. В ее состав входили села Мечетка, Коршево, Тойда (ныне – Старая Тойда), Курлак (Старый Курлак), Яблочное (Средний Икорец), Городецкое (Верхний Икорец), деревни Садовая (с. Садовое), Щучья (с. Щучье) и др. В дальнейшем на этой территории в бассейне Битюга и Икорца возникали новые дворцовые села. Проживали здесь преимущественно крестьяне, принадлежавшие царской семье. Эти населенные пункты мы сегодня можем найти на карте Аннинского, Бобровского, Лискинского районов Воронежской области.
Интересно сложилась административная история Борисоглебска[3] и входившей в его уезд Хоперской крепости. Их географическая близость с Тамбовом, обусловившая тесные экономические связи, привела к тому, что центральная власть долго не могла окончательно определиться с территориальной принадлежностью этих поселений. Они передавались то в Воронежскую, то в Тамбовскую провинции, пока пришедшая к власти Екатерина II не занялась оптимизацией территориальной структуры своей империи.
Небольшие города, некогда возведенные ради оборонительных целей, а по утрате этих функций так и не обретшие импульсы для развития, присоединялись к более крупным. Так, в 1764 году Костенск и Землянск были приписаны к Воронежу, а Орлов – к Усмани. И хотя этот указ так и остался на бумаге, через десять лет задуманные меры во многом осуществили.
В 1765 году территория Воронежской губернии подверглась резкому сокращению. Бахмутская провинция, которая с точки зрения обеспечения безопасности являлась наиболее проблемной, была приписана к недавно образованной Новороссийской губернии.
Губернская реформа 1775 года Екатерины II привела к кардинальным изменениям в территориальном делении империи. Провинции были упразднены, уменьшенные губернии непосредственно делились на уезды. Площадь Воронежской губернии в целом совпала с бывшей Воронежской провинцией и даже несколько увеличилась на юге за счет Слободско-Украинской губернии.
В ходе реализации реформы утратили ранг города, построенные на Белгородской оборонительной черте в 1640-е годы: Костенск, Ольшанск, Орлов, Урыв, а также основанный Петром I Тавров. В то же время некоторые нынешние районные центры Воронежской области именно тогда, в 1779 году, стали городами: Бобровая слобода – г. Бобровым, однодворческое село Нижняя Девица – г. Нижнедевицком, слобода Богучар – одноименным городом. В 1779–1802 годах существовал уездный город Калитва (в настоящее время – село Старая Калитва Россошанского района). В 1782 году в состав Воронежского наместничества из Тамбовского была включена Гвазда, бывшая три года уездным городом. В том же году Гвазда утратила свой статус. Ныне это село Бутурлиновского района Воронежской области.
В 1779 году в Тамбовское наместничество вошли Новохоперск (так теперь стала именоваться Хоперская крепость) и Борисоглебск. Последний из-за необходимости отличаться от одноименного города в Ярославском наместничестве вскоре получил добавление – «при реке Вороне». В 1782 году Новохоперский и часть Борисоглебского уезда были присоединены к Саратовскому наместничеству.
Органы власти и управления Воронежской губернией. Воронежский губернатор являлся ключевым элементом системы местного управления. Он возглавлял высшую губернскую администрацию, куда до 1775 года входили также вице-губернатор и один-два «товарища» (заместителя). Какой-либо унифицированной (единообразной) структуры высшего губернского управления в России до начала царствования Екатерины II не существовало. Это подтверждается на примере Воронежской губернии, которой могли единолично руководить вице-губернаторы или товарищи, являвшиеся самостоятельными правителями.
Восшествие на престол Екатерины Великой привело к первым сдвигам в этом вопросе. В 1763 году была утверждена новая структура высших местных должностных лиц: губернатор и два товарища.
Всего за полвека с момента смерти Петра Великого в 1725 году в Воронежской губернии сменилось 12 губернаторов, 7 вице-губернаторов, 12 губернаторских и вице-губернаторских товарищей[4]. Управляли они также и Воронежской провинцией. Остальными четырьмя провинциями, а в них – уездными городами, руководили воеводы.
Губернаторы назначались из числа действующих генералов или преимущественно военных отставников. Воронежскому губернатору полагался ранг генерал-лейтенанта, вице-губернатору – генерал-майора, всем товарищам был определен ранг коллежских советников. Обилием титулованных особ воронежские администраторы не отличались. Представителями самых древних фамилий были губернатор, князь Григорий Урусов – потомок старинного татарского рода, и губернаторский товарищ, князь Алексей Кропоткин.
Полномочия свои губернаторы отправляли бессрочно. Для некоторых руководителей назначение в отдаленную от столицы Воронежскую губернию было неудачным поворотом карьеры, следствием придворных интриг. Например, как провал дипломатической карьеры следует рассматривать перевод губернатором в Воронеж бывшего посланника в Голландии, Швеции и Дании Алексея Пушкина.
Екатерининские губернаторы были более инициативными по сравнению со своими предшественниками, что имело и законодательное обоснование. «Наставление» (инструкция) губернаторам 1764 года внушало мысль, что они являются хозяевами областей, а это стимулировало их активность. В этом отношении особо себя зарекомендовали руководители Воронежской губернии Александр Лачинов и Алексей Маслов[5].
Исполнительным органом при губернаторе была канцелярия. С петровской эпохи она располагалась в приречном районе Воронежа, недалеко от нынешней Успенской Адмиралтейской церкви. В пожаре 1748 года канцелярия и губернаторский двор сгорели. В следующем году на месте нынешнего главного корпуса Воронежского государственного института инженерных технологий (пр. Революции, 19) появился бревенчатый дом. Это была казенная резиденция губернатора А.М. Пушкина. В 1758 году он опять сгорел. Много позже, примерно на том же месте был сооружен обложенный кирпичом двухэтажный особняк, в котором в 1782 году поселился наместник, генерал-поручик В.А. Чертков[6].
В Воронеже сохранился и жилой дом одного из губернаторов. Это здание является изумительным памятником эпохи барокко. В конце 1770-х годов его построил для себя губернатор, генерал-поручик Иван Алексеевич Потапов. Свой пост он занимал 16 лет, поставив в этом отношении своеобразный рекорд. С этим красивым особняком связано немало легенд, будто бы его строили специально для Екатерины Великой или крымского хана Шагин-Гирея, сосланного в Воронеж[7]. Сейчас здание занимает областной художественный музей имени И.Н. Крамского (пр. Революции, 18).
На руководителей был возложен значительный круг обязанностей: военных, административных, полицейских, финансовых и судебных. Важнейшие из них (пополнение армии рекрутами, сбор подушной подати и др.) находились под неусыпным вниманием верховной власти.
К верхушке провинциальной политической элиты относился и прокурор. Орган надзора был учрежден в 1722 году при Воронежском надворном суде, но уже в 1727 году упразднен. Восстановление прокуратуры на местах произошло при императрице Анне Ивановне. В 1731 году первым воронежским губернским прокурором был назначен капитан Василий Хитрово. Всего до 1775 года сменилось 9 воронежских губернских прокуроров. Некоторые из них занимали свои должности более 10 лет, другие – менее полугода[8]. В 1763 году была образована провинциальная прокуратура.
При Анне Ивановне в Воронеже появилась и полиция. До Петра I ее функции на местах осуществляли местные должностные лица. Воронежская полицмейстерская контора во главе с капитаном Василием Горчаковым была образована в 1733 году. Обязанная регламентировать повседневное поведение подданных новая служба стала, по сути, инструментом тоталитарного контроля в строящемся здании «полицейского» государства.
Контора занималась выдачей и регистрацией паспортов, организацией постоя солдат, следила за безопасностью движения на улицах, за ценами на рынке, боролась с преступностью, беглыми, нищими, азартными играми, т.е. в целом обеспечивала городское «благочиние».
Воронеж – центр губернии. В послепетровское время облик губернского центра менялся довольно медленно. Преобладали деревянные жилые постройки. В камень в основном перестраивались церкви: Никольская (1712–1720 гг.), Покровская (1736 г.). В 1735 году богатый фабрикант Потап Гарденин заложил Тихвино-Онуфриевский храм.
С именем предпринимателя связан и самый старый, существовавший в 1750 году и, увы, практически утраченный кирпичный дом (современный адрес: пер. Фабричный, 10). Рядом находится и другой дом семьи Гардениных (№ 12), ранее считавшийся старейшим, но на самом деле построенный в третьей четверти XVIII века.
Поблизости уцелел цех принадлежавшей им же суконной фабрики 1770-х годов (ныне – филиал областного краеведческого музея «Арсенал»).[9]
Интересные постройки той эпохи сохранились на расположенной неподалеку улице Освобождения Труда – часть каменной ограды с башней Алексеевского Акатова монастыря и замечательный храм эпохи барокко – Введенская церковь.
Семнадцать лет усилиями четырех архиереев на месте нынешнего главного корпуса ВГУ строился Благовещенский собор. Архитектором выступал каменных дел мастер Андрей Клюка. В 1735 году собор был завершен и простоял более 200 лет. В настоящее время главный храм епархии с тем же названием воздвигнут на другом месте, в Первомайском саду.
Храмостроительство активно шло и в Воронежской епархии. Церкви, главным образом, построенные в последней трети XVIII века, сегодня сохранились в ряде городов и сел Воронежской области: Успенская в Калаче 1750 года, Преображенский собор в Павловске, заложенный в 1780 году, Благовещенская в селе Лосево Павловского района 1782 года, Бориса и Глеба в Борисоглебске 1792 года, Покровская в селе Пузево Бутурлиновского района 1793 года и др. Из светских зданий стоит отметить дом бригадира И.И. Тевяшова в Острогожске третьей четверти XVIII века.
Судьбоносное значение для дальнейшего развития внешнего облика Воронежа имел пожар, вспыхнувший 10 мая 1748 года. Огонь испепелил остатки деревянных строений, которые еще могли сохраниться от петровской эпохи. Сгорели губернская канцелярия с архивом, дом губернатора, полицмейстерская контора, купеческие ряды с товарами, шесть церквей, около 700 домов жителей[10]. Следствие не нашло злого умысла в причинах пожара. Но было ясно одно – скученность деревянных построек, узость улиц не гарантировали от таких последствий в будущем. Чтобы их уменьшить, по распоряжению губернатора А.М. Пушкина все городские кузницы были вынесены за вал. Они находились на пустыре, возле современного кинотеатра «Пролетарий».
Потребовался еще один пожар 10 августа 1773 года, чтобы была ускорена работа по составлению Генерального плана. Он был принят в 1774 году и заложил сердцевину планировки современного Воронежа. Дома отныне разрешалось строить лишь по проложенным на плане улицам. В ходе его осуществления от нынешней Университетской площади расходились лучами три основных улицы: Большая Московская (ныне Плехановская), Большая Девицкая (9 Января), Мещанская (Володарского). Главной улицей стала Большая Дворянская (проспект Революции)[11]. Старый земляной вал, проходивший примерно по линии ул. Станкевича, площади Ленина и ул. Театральной подлежал срытию. Новый вал (по ул. Кольцовской и Красноармейской) просуществовал до конца века.
В 1780-е годы Екатерина II согласовала генеральные планы большинства других уездных городов Воронежского края, положивших начало их регулярной застройке. Одновременно происходило и утверждение их гербов. Официальный символ Воронежа был одобрен Сенатом в 1781 году. В верхней части щита в золотом поле помещался двуглавый черный орел, в нижней части в красном поле – опрокинутый сосуд, из которого истекала река Воронеж. (Рис. 7).
Экономическое и социальное развитие Воронежского края. В середине-второй половине XVIII века интенсивно продолжался процесс колонизации края. Прежде всего, была заселена территория между реками Дон и Воронеж. Ранее многие земли не были освоены из-за сохранения угрозы вторжения степных кочевников. Наиболее яркий пример тому – мощный набег кубанского правителя Бахты-Гирея на Воронежскую губернию в 1717 году[12]. Окончание русско-турецкой войны 1735–1739 годов, вторичный захват Азова, дальнейшее ослабление Османской империи и Крымского ханства дали импульс колонизации южных и восточных районов Воронежской губернии. Обширными землями здесь были наделены представители аристократической и военной элиты. Так, в Павловском уезде обосновались граф Р.И. Воронцов, князь И.Ю. Трубецкой, генерал-лейтенант М.И. Сафонов. В 1741 году немалые владения на реке Осередь получил граф А.Б. Бутурлин. Будущий генерал-фельдмаршал основал слободу Бутурлиновка, которая во второй половине XVIII века называлась по имени его сына Петровской[13].
В 60–70-е годы ХVIII века были заселены земли в бассейне реки Хворостани, принадлежащие воронежскому Покровскому женскому монастырю. После указа Екатерины II о секуляризации монастырских земель сюда были переведены бывшие монастырские крестьяне из подмосковных уездов. Основаны современные села Каширское (1764 г.), Данково (1768 г.), Мосальское (ок. 1768 г.), Можайское (1770 г.)[14].
Плодородие черноземных почв, обширные степные пространства, умеренный климат являлись благоприятными факторами для развития в крае земледелия и скотоводства. Во второй четверти XVIII века в основном сложилась трехпольная система. Главными орудиями сельскохозяйственного труда были соха, борона, коса и серп. Сеяли в основном рожь, а также пшеницу, ячмень, овес, просо, гречиху, горох. Как следствие примитивной агротехники, неудобрения полей урожайность была невысокой: в среднем по озимым культурам – сам-4 (на одно посеянное зерно получали четыре), в лучшие годы – сам-6 и 7, по яровым – вдвое меньше. Во второй половине XVIII века в ряде южных уездов Воронежской губернии (Бобровском, Острогожском, Павловском и др.) вместо сохи постепенно стал использоваться плуг[15]. В него впрягали четырех и более волов.
Воронежская губерния превращалась в одну из основных житниц страны, с середины XVIII века сельское хозяйство здесь приобретало товарный характер. Но сбор зерна зависел, разумеется, от капризов погоды, нашествий грызунов и саранчи. В каждом десятилетии века в губернии возникали неурожаи, порой приводившие к голоду. Местной власти приказывалось описывать излишки зерна, предоставлять его взаймы из казенных магазинов, регулировать хлебные цены, делать послабления в уплате налогов. Во время голода 1774 года воронежский губернатор Н.Л. Шетнев организовал в уездных городах общественные работы для желающих независимо от пола и возраста. Люди рыли рвы и насыпали земляные валы за умеренную плату из казны. Ставилась цель не только обеспечить терпящих нужду средствами к прокормлению, но и удержать их от «неистовства и праздности»[16].
Большие масштабы имел голод 1787 года. В Воронежской губернии урожайность составила не более сам-2. Люди употребляли в пищу листья, сено, мох, лебеду.
Необходимость поиска альтернативных зерновым продуктов на случай голода привела к распространению в России картофеля, до этого считавшегося деликатесом. Своеобразная краткая энциклопедия картофелеводства под названием «Наставление о разведении земляных яблок» в 1765 году в большом количестве рассылалась на места, в том числе и в Воронежскую губернию. Однако распространялся новый овощ постепенно. Так, в 1768 году в Острогожске о картофеле был только слух, а через тринадцать лет в рыночные дни торговцы уже активно его продавали. В Воронежском уезде картофель также появился лишь в 1780-е годы.
Жители края выращивали капусту, репу, редьку, огурцы, морковь, из плодовых деревьев – яблони, груши, вишни, сливы. В Воронеже и Павловске со времени Петра I существовали фруктовые сады[17]. В 1760-е годы комендант Хоперской крепости И. Неймч ставил опыты с шелковицей и абрикосами.
На юге губернии население извлекало доход из пчеловодства и содержания бахчей, на которых созревали арбузы, дыни. Началось выращивание белой сахарной свеклы и красной кормовой для скота. Из нее был получен сок, а затем и сахар. В конце 1770-х годов в губернском Воронеже был основан один из первых сахарных заводов в стране.
Обилие пастбищ с тучной травой позволяло держать крупный и мелкий скот: коров, овец, свиней, коз. Черкасы разводили преимущественно волов.
Благоприятные условия позволяли заниматься и племенным коневодством. В 1776 году графом Алексеем Григорьевичем Орловым-Чесменским (1737–1807 гг.) в селе Хреновом Бобровского уезда был основан конный завод, где в конце XVIII – начале XIX века в результате селекционной работы была выведена новая порода лошадей – орловская рысистая. Управляющий завода В.И. Шишкин и другие работники скрещивали аравийских, закавказских и среднеазиатских жеребцов с кобылами европейских пород.
В послепетровскую эпоху в Воронежском крае развивались различные отрасли промышленности. Металлургическое производство не являлось ведущим из-за отсутствия большого запаса руд. Тем не менее, с 1717 года на реках Толучеевка и Подгорная действовал металлургический завод, основанный московским предпринимателем Василием Озеровым. Его сын в 1743 году продал предприятие воронежскому суконному фабриканту В. Тулинову[18]. В это время на заводе трудились 149 мастеровых. Помимо русских, здесь работали также поляки и татары.
В 1750-е годы в Воронежском уезде существовало два железных завода, которые имели ручные горны и относились, по сути, к кустарной промышленности.
Суконное производство в Воронежском крае особенно увеличивается во второй половине XVIII века в связи с ростом товарности сельского хозяйства и расширением внутреннего рынка. В 1760-е годы в Воронеже действовало семь суконных мануфактур[19]. В 1773 году суконную фабрику основал купец Елисеев. Расширяли свое производство фабриканты Тулиновы, Гарденины, Постоваловы.
В самом Воронеже мануфактуры располагались преимущественно в подгорной части у реки, а также на Придаче и Чижовке. Кроме того, существовали мануфактуры и в уездах Воронежской губернии. Из воронежских фабрикантов-суконщиков к концу XVIII века наиболее крупными предпринимателями являлись Тулиновы, а также купцы Гарденины, Елисеевы, Постоваловы. Фабриканты-суконщики, поставлявшие сукна в казну, пользовались покровительством государственной власти.
В губернском городе и его уезде также существовали волосяная фабрика, кожевенный завод В.Ф. Постовалова, купоросные фабрики И. Клочкова и М. Попова с братьями, коверная фабрика П.П. Сахарова. В Костенском уезде и Острогожске имелись заводы по варке селитры, в разных городах края были небольшие винокуренные заводики, принадлежавшие местным жителям. В Павловске работала крупная казенная канатная фабрика, которая поставляла свою продукцию на экспорт через порт Таганрога в Стамбул. Однако суконная промышленность во второй-третьей четверти XVIII века продолжала оставаться ведущей отраслью воронежской промышленности. К концу века в губернии числилось 29 суконных фабрик, 94 винных, 5 пивоваренных заводов, 21 мыльный.
Удобное географическое положение города способствовало развитию торговли, осуществлявшейся в первую очередь по главной водной артерии края – Дону, а также его притокам. Именно торговля обеспечила дальнейшее развитие Воронежа, который мог потерять свой статус и, как, например, Белгород, надолго превратиться из губернского центра в уездный город.
Рост торговых связей Воронежа с другими районами активизировался еще в годы петровского кораблестроения. Местные купцы торговали солью, которая привозилась из Астрахани; рогатым скотом, закупаемым в уездах, медом. Обычным товаром на рынке была рыба, в том числе осетровых пород, красная икра. В Воронеж везли соленые грибы, клюкву, орехи, рис. Из Москвы поставляли кофе, чай, сахар, голландский сыр, пряности. Воронежские купцы закупались преимущественно в Москве, Ораниенбурге (ныне г. Чаплыгин Липецкой области), где была крупная ярмарка, причем, не только продовольствие, но и предметы домашнего обихода, импортную и отечественную одежду. Коммерция способствовала накоплению состояний и выделению ряда воронежских купеческих династий (Гардениных, Тулиновых, Русиновых, Сахаровых и др.), которые вкладывали свои капиталы в развитие мануфактур.
Воронеж поддерживал торговые связи более чем с 50 городами ЦЧР, Центральной России, Поволжья и Украины. В 1772 году 35 воронежских купцов и суконных фабрикантов подали на имя императрицы «прожект» об организации монопольной торговой компании, которая бы на собственных судах экспортировала зерно. Проект был утвержден, но компания так и не начала свою деятельность[20].
Успешно развивалась торговля и в других придонских городах края – Коротояке, Павловске. Местные купцы закупали рыбу, вино и виноград в Азове, Таганроге, казачьих станицах. Чулки и варежки, связанные павловскими мастерицами, расходились далеко за пределами этой местности.
Важным фактором развития торговли, перевозки грузов, почты и пассажиров были транспортные коммуникации. В екатерининскую эпоху из Воронежа расходилось пять почтовых дорог. Одна шла через Задонск на Москву и далее Петербург, другая – через бывший город Орлов (ныне село Новоусманского района) в Тамбов, Саратов, Казань. Двигаясь через Острогожск, путник мог выбрать направление либо на Харьков, либо на Богучар. Четвертый тракт, во многом совпадающий с современной трассой «Дон», шел через Бобров, Павловск, Богучар в донские станицы и к столице казачества – Черкасску. Наконец, еще одна дорога вела на запад через Нижнедевицк и Землянск в Старый Оскол.
Социальная структура населения. Обширная Воронежская губерния, географически выходящая за пределы и современной области и Центрального Черноземья, была довольно пестрой по национальному и отчасти религиозному составу населения. Конечно, подавляющей основой были русские православные жители. Между тем колонизуемый юг России еще с середины XVII века, после церковного раскола стал естественным местом притяжения старообрядцев. И в XVIII веке в Воронежской губернии сохранялась питательная почва для появления и укоренения различных христианских сект. Начавшийся благодаря религиозной политике Екатерины II новый наплыв иностранцев, особенно выходцев из немецких земель, увеличил численность приверженцев протестантизма.
В 1766 году лютеране из южной Германии населили колонию Рибенсдорф под Острогожском. На каждую семью выделялось 60 десятин земли. Колонисты занимались выращиванием американского табака, земледелием, ремеслами (ткачество, изготовление глиняных трубок, плетение соломенных шляп и др.). В 1781 году в Рибенсдорфе насчитывалось 52 дома и деревянная кирха[21]. В последней четверти века немецкие специалисты (аптекари, врачи, механики) стали поселяться и в Воронеже. Ислам в Воронежской губернии был представлен многочисленным татарским населением в Тамбовской и Шацкой провинциях.
В 1782 году в Воронежской губернии проживали представители более 20 народов, в том числе 1500 цыган, 75 поляков, 33 турка, персы, евреи и др.[22] К моменту создания Воронежского наместничества в нем жительствовало 317 тысяч душ мужского пола, т.е. всего более 630 тысяч человек.
Основным населением города Воронежа и края в послепетровский период были однодворцы – потомки служилых людей, чьи «услуги» после создания регулярной армии и флота, снижения степени угрозы южнорусским землям стали ненужными. Однодворцы делились на «службы» (казачью, стрелецкую, атаманскую). Они проживали слободами, совместно владели землей за городом, уплачивали основной прямой налог – подушную подать, выполняли повинности, поставляли новобранцев в нерегулярное войско – ландмилицию.
Двойственность положения однодворцев состояла в том, что юридически они имели некоторые привилегии дворянства (например, право владеть крепостными крестьянами), но одновременно подвергались эксплуатации[23].
Сведения о численности однодворцев Воронежского края содержатся в материалах «ревизий», представлявших собой перепись главным образом податного населения. В ходе ревизии налогоплательщики подавали «сказки», в которых приводили сведения о себе и своей семье.
В материалах первой ревизии, начавшейся в 1719 году, в Воронеже зафиксировано 2.140 однодворцев (в провинции их было 11,3 тыс.). Посадских людей (торгово-ремесленное население) в нашем городе в это время насчитывалось 1.532 чел. Сохранилось 435 «сказок» жителей Воронежа, относившихся к людям «разных чинов»[24]. Они в подавляющем большинстве не имели своих дворов и кормились разными временными работами или наймом. Основная масса разночинцев по происхождению принадлежала к служилым людям или их детям.
Вторая ревизия, проводившаяся в 1743–1745 годах показала, что численность торговцев и ремесленников в Воронеже почти не изменилась (1526 душ), в то время как однодворцев стало почти вдвое меньше – 1.234 человека[25]. Некоторые однодворцы, утратившие землю, зарабатывали на жизнь ремесленными делами и «художествами»: портным, сапожным, кожевенным, кирпичным и др.
В период третьей ревизии, осуществлявшейся в 1762–1765 годах, численность однодворцев Воронежа увеличилась до 1.422 душ (в Воронежской провинции – более 82 тыс.)[26]. Наконец, по данным четвертой ревизии (1782–1785 гг.), в губернском центре проживало 1844 однодворца.
Материалы ревизий – это ценный источник, позволяющий изучать историю населенных пунктов, динамику народонаселения в целом и отдельных семей, предоставляют большие возможности для генеалогических изысканий.
Судостроение в Воронежском крае в послепетровский период. Как верфь Воронеж утратил свое значение еще в 1711 году. Однако судоходство по реке продолжалось на протяжении всего века. Каждой весной с пристани отплывали нагруженные местными купцами провиантом транспортные суда.
В 1724 году в Константинополе был заключен мирный договор с турками. Он снял на неопределенный период опасность новой войны и поставил на повестку дня вопрос о завершении судостроения в Воронежском крае, которое велось в Таврове и Павловске с 1723 года. Надзор за построенными судами поручался капитан-лейтенанту Андрису Росселиусу. Этот шведский моряк много лет отдал службе в Таврове, будучи капитаном местного порта[27].
В конце 1724 года из Таврова уехал руководитель судостроения вице-адмирал Матвей Христофорович Змаевич. Вернулся он при драматических для себя обстоятельствах. В 1727 году Змаевич получил звание адмирала и некоторое время управлял Адмиралтейств-коллегией. В следующем году по доносу о присвоении казенного имущества он попал под суд, был разжалован в вице-адмиралы, крупно оштрафован и назначен командиром Астраханского порта. Змаевич ходатайствовал о смягчении своего наказания и в итоге был направлен в Воронеж. В 1729 году он прибыл в Тавров и возглавил местное Адмиралтейство. Его деятельность на протяжении следующих шести лет была весьма результативной. В основном она сводилась к заготовке леса и последующей постройке из него новых галер и будар (транспортных судов).
В середине 1730-х годов началась проработка вопроса об учреждении в низовьях реки нового Адмиралтейства. Было проведено тщательное обследование местности. В нем участвовал специально приехавший из Таврова генерал-кригс-комиссар (отвечал за снабжение армией) князь Михаил Михайлович Голицын. Однако выяснилось, что в силу разных причин где-либо на Дону строить Адмиралтейство нерентабельно. Тема была закрыта. Судостроение продолжилось на базе Тавровского и Павловского Адмиралтейств[28].
Петр Великий оставил после себя нерешенной проблему обеспечения безопасности своих границ и южных земель. Россия еще несколько раз воевала с Османской империей за выход к Черному морю. В 1735 году разразилась очередная война. Фактически боевые действия начались в следующем году. Построенные на Тавровской, Павловской, Икорецкой и других верфях Воронежского края суда различных типов (галеры, боты, лодки) сплавлялись до Азова и с трудом, из-за неглубокого фарватера, выходили в море. Они участвовали в его патрулировании, в военных акциях с турецким флотом.
Активную роль в этих событиях играл вице-адмирал Питер Бредаль. По национальности норвежец, он был принят на службу в русский гребной флот своим соотечественником вице-адмиралом Корнелием Крюйсом. В 1709 году П. Бредаль среди прочих иноземцев был послан из Москвы в Воронеж. Спустя два года он командовал шнявой (небольшое двухмачтовое судно) «Лебедь», которая с разведывательной целью курсировала в северо-восточной части Азовского моря.
Следующие четверть века деятельность П. Бредаля, которого на русский манер называли Петром Петровичем, протекала на Балтийском море, в Петербурге и за границей. В 1730–1735 годах в ранге контр-адмирала он занимал должность главного командира Ревельского, а затем Архангельского портов. Когда в 1735 году в Таврове умер начальник Адмиралтейства М.Х. Змаевич, на его место был переведен П. Бредаль. Ему довелось неоднократно бывать в Таврове, Павловске, Острогожске. Он возглавлял Донскую флотилию, которая оказала большую помощь сухопутным войскам при захвате Азова в 1736 году. Во время осады корабли эскадры П. Бредаля произвели более 8600 выстрелов.
По окончании этих событий он вернулся в Тавров, в 1737 году стал вице-адмиралом и руководил двумя следующими тяжелыми военными кампаниями. Адъютантом к нему в это время был определен мичман, будущий знаменитый флотоводец Григорий Спиридов.
В 1740 году П. Бредаль уехал в Петербург. Руководители армии и современники, в том числе иностранцы, высоко отзывались о его военных способностях. Он придумал для предотвращения цинги у команды настаивать вино на сосновых шишках. Пользовался особым доверием царя. 53 года жизни Петр Петрович преданно служил России[29].
После завершения в 1739 году русско-турецкой войны судостроительная деятельность в Воронежском крае прекратилась на 30 лет. Суда и неиспользованный лес убрали на сохранение в удобные места, большую часть мастеровых людей перевели в Петербург. В 1744 году в Таврове произошел грандиозный пожар. В нем сгорели адмиралтейские магазины, соборная церковь, контора Адмиралтейства, школа, госпиталь, аптека и другие постройки, а также 44 корабля. Пожар имел важнейшие последствия для судьбы города. Была уничтожена практически вся корабельная инфраструктура. Процесс упадка Тавровской крепости стал необратимым, будучи приостановлен коротким возобновлением строительства судов в начале правления Екатерины II.
В 1768 году в Воронежском крае заработали четыре казенные верфи: Икорецкая, Тавровская, Павловская и Новохоперская. Здесь строили прамы (плоскодонные артиллерийские суда), «новоизобретенные» (с малой осадкой для прохождения мелководья Дона) и бомбардирские корабли, вооруженные лодки, фрегаты (трехмачтовые корабли с одной-двумя орудийными палубами). Они предназначались для Азовской военной флотилии. С 1768 года ею командовал контр-адмирал Алексей Наумович Сенявин. В январе 1769 года он прибыл в Воронеж[30]. По его распоряжению были измерены глубины рек Воронеж и Дон. В 1771 году эскадра А.Н. Сенявина спустилась в Азовское море и приняла участие в русско-турецкой войне. Позже адмирал стал одним из создателей Черноморского флота. А.Н. Сенявин владел имением в Воронежской губернии (село Конь-Колодезь, ныне Хлевенского района Липецкой области).
Под его началом служил и молодой офицер Федор Ушаков. В 1770 году он командовал одним из прамов, плавал от села Мамон вверх до Павловска. В следующем году Ф. Ушаков участвовал в проводке одного из фрегатов от Хоперской крепости до Азовского моря. Получил благодарность за спасение припасов и материалов с затонувших на Дону судов и их подъем. В 1790 году Ф.Ф. Ушаков возглавил Черноморский флот, одержал крупные победы над флотом Турции. В 1799 году получил звание адмирала. Во время Великой Отечественной войны были учреждены орден и медаль Ф. Ушакова. Он – первый в истории Русской православной церкви и всего христианского мира флотоводец, причисленный в 2001 году к лику святых.
В 1769 году Икорецкая верфь была упразднена. На Тавровской верфи осуществлялось строительство небольших судов. Остатки ее корабельных доков сохранялись вплоть до заполнения в 1972 году чаши Воронежского водохранилища. Прошлое современного села Таврово в микрорайоне Масловка отражено в названиях его улиц (Доковая, Корабельная, Петровская, Якорная) и сохранившихся остатках земляного бастиона.
Судостроение на Павловской верфи завершилось в 1778 году. Новохоперская верфь стала последней. Здесь строились фрегаты и транспортные суда. В 1779 году отсюда на верфь Таганрога перевозили лесоматериалы и припасы, перевели служителей и работных людей. Окончательно строительство больших судов в Новохоперске прекратилось лишь в 1789 году.
В конце XVIII века была поставлена задача вместо пришедшей «в совершенную ветхость» при войске черноморских казаков гребной флотилии построить ее вновь. Император Павел I вынес решение соорудить 20 судов на Хопре. В 1801 году Новохоперская верфь возобновила работу. Полностью изготовили 10 казачьих лодок. Последний раз о функционировании верфи сообщается в 1803 году. По всей вероятности, этот год является финальным аккордом в истории дореволюционного воронежского судостроения.[31]
Народные волнения в 1760-е – середине 1770-х годов. Эпоха Екатерины Великой стала весьма урожайной на самозванцев. Призрак убиенного супруга, всплывавший то там, то тут, материализовался в не менее чем 24 претендентах на престол. Дух Петра III проник и в медвежьи углы Воронежской губернии. Пальму первенства по концентрации опасного для верховной власти вируса держал Тамбовский уезд.
Однако наибольший резонанс имело дело «самодержца», заявившего о себе летом 1765 года. Тогда пять сел в Усманском, Воронежском, Коротоякском и Костенском уездах оказались в эпицентре агитационной кампании императора «Петра III» – Гаврилы Кремнева. Этот однодворец сбежал из своего полка, разъезжал по населенным пунктам и был глашатаем мифического указа об отмене на 12 лет рекрутских наборов и подушной подати, а также о свободе винокурения. Но он недолго царствовал в своей микроимперии. Следствие секретно, быстро и энергично провела Воронежская губернская канцелярия. В зараженных самозванством селах курьеры читали Манифест о вине и наказаниях Г. Кремнева и сообщников.
Самозванцу предлагалось отрезать язык, а потом «колесовав, отсечь голову». Екатерина II освободила его от смертной казни, поняв из дела, что никаких опасных для престола намерений у него не было, а преступление произошло «без всякого с разумом и смыслом соображения, а единственно от пьянства… буйства, сопряженного с глубоким невежеством».
Несостоявшемуся государю привязали на грудь доску с надписью: «Беглец и самозванец» и высекли кнутом во всех селах, где он о себе разглашал. Затем ему выжгли на лбу начальные буквы этих слов и сослали вечно на каторгу в Нерчинск[32].
И в дальнейшем самозванцы, как молния в землю, неприятно били в разных частях страны по нервам власти. Наибольшую угрозу, конечно, представлял, еще один «Петр III» – Емельян Пугачев.
Крестьянская война под его предводительством в июле – сентябре 1774 года охватила восточные районы Воронежской губернии. В 11 городах и уездах Тамбовской и Шацкой провинций летом этого года было убито более 310 человек. В Тамбовской провинции в волнениях участвовало не менее 250 тысяч человек. Война затронула также Борисоглебский и частично Воронежский уезды. Помимо помещичьих крестьян, в событиях на территории губернии участвовали однодворцы, экономические и дворцовые крестьяне, работные люди. Воронежский губернатор Н.Л. Шетнев распорядился мобилизовать отставных солдат и однодворцев бывших ландмилицких полков. В августе 1774 года он сообщал об отсутствии в губернии эффективных защитных мер. К Воронежу были направлены армейские полки. В Шацкой провинции по инициативе одного из помещиков началось формирование конного дворянского корпуса. Эти меры привели к подавлению волнений на территории Воронежской губернии[33].
В 1766 году в Павловском уезде Воронежской провинции вспыхнули многочисленные выступления крепостных крестьян. Взбунтовались малороссияне, жившие в слободах Воронцовка, Александровка, Михайловка и др. Они отказались повиноваться владельцам (А.Б. Бутурлину, Р.И. Воронцову, И.Ю. Трубецкому) и требовали перевести их в дворцовое ведомство. Первоначально центральная власть приказала руководству губернии усмирить их без кровопролития. Но ни увещевания священников, ни губернатора А.М. Маслова не помогли. Тогда пришлось применить вооруженную силу. После жесткого подавления волнений в слободе Михайловка подчинились и остальные слободы[34].
Культурная и научная жизнь. Лучу просвещения еще предстояло пробить себе дорогу. Между тем приобщение представителей некоторых сословий к знаниям уже было заметным. Во второй-третьей четверти XVIII века действовали адмиралтейская школа в Таврове, гарнизонные в Воронеже и Павловске, духовная семинария в губернском центре. Кроме того, в это время в нашем городе прекратила существование «цифирная» школа, в которой обучались дети чиновников, бывших служилых людей, духовенства.
Адмиралтейская школа была основана в Воронеже еще в 1703 году[35] и позже переведена в Тавров. В 1725 году в нее набрали для обучения чтению и письму 67 детей морских и адмиралтейских служителей. Спустя семь лет в школе обучалось уже 160 детей. Несомненно, что такой рост был вызван необходимостью иметь элементарно образованных людей в случае возобновления кораблестроительных работ. Тавровская школа просуществовала до середины 1770-х годов.
В 1732 году для обучения солдатских детей при гарнизонных пехотных полках учреждались особые школы. В них следовало определять детей, главным образом, бывших служилых людей от 7 до 15 лет. Школы готовили военных писарей, брать воспитанников для определения в губернские и воеводские канцелярии «к земским делам» запрещалось.
Воронежская гарнизонная школа по плану города 1768 года находилась на месте пересечения современных улиц Сакко и Ванцетти и Смоленской (ныне на этом месте дом № 72). Вскоре для нее выстроили одноэтажный каменный дом. На закате своей истории школа находилась на Большой Дворянской улице (проспект Революции).
Дети духовенства, изъятые из контингента цифирных школ, обучались в специализированных учебных заведениях. Вероятно, первую школу при Воронежском архиерейском доме с элементарным курсом знаний основал епископ Лев (Юрлов), управлявший в 1727–1730 годах.
В 1745 году в Воронеже была учреждена духовная семинария[36]. Как и в светских школах, здесь обучались дети 7–15 лет. Первыми преподавателями были выпускники духовных учебных заведений Киева и Харькова, славившихся высоким уровнем образования. В дальнейшем Воронежская семинария стала выпускать и своих учителей. Обязанности их состояли в обучении учеников, присмотре за их поведением, ведении «школьного каталога». В семинарии насчитывалось шесть классов, поэтому она относилась к неполным (в полных имелось 8 классов). В низших классах в основном изучали латинскую грамматику, в двух высших – пиитики и риторики учились сочинять стихи и составлять речи.
Располагалась семинария при архиерейском доме. Содержалась она за счет хлебных сборов с духовенства и монастырей, штрафов со священников, укрывавших детей от учения и «школьных денег». Нищенское содержание учеников, скудное жалованье учителей, суровость школьной дисциплины, решительное преобладание среди предметов латыни (на нее отводилось 24 часа в неделю) – все это вызывало обоснованное непонимание рядового духовенства. Именно вследствие строгих действий епископа Феофилакта (Губанова) учебное заведение устояло и даже сделало некоторые накопления, позволившие построить новый семинарский дом и завести в 1757 году первую в истории города библиотеку. И хотя она не имела публичного характера, и пользоваться ею мог только узкий круг лиц, в жизни провинциального города середины XVIII века это стало значимым культурным событием.
Огромное нравственное влияние на паству оказывала деятельность епископа Воронежского и Елецкого Тихона I. После нескольких лет управления епархией, повседневные заботы о которой подорвали его здоровье, владыка получил разрешение удалиться в монастырь. Сначала он проживал под Воронежем в Толшевском Спасо-Преображенском монастыре, а затем переехал в Задонский монастырь. На покое он написал свои лучшие духовные произведения. Позже они были опубликованы в 15 томах. В 1861 году Тихон был канонизирован. В настоящее время его мощи находятся в Рождество-Богородицком мужском монастыре Задонска.
Воронежская земля стала местом деятельности многих ученых. Так, в 1730-х – начале 1740-х годов в нашем городе впервые побывало несколько исследователей: первый директор Московского аптекарского или медицинского огорода, ботаник Т. Гербер, автор труда «Флора придонская в районах Воронежа и Таврова до большого Дона…», врач и ботаник И.Я. Лерхе, который осуществлял здесь метеорологические наблюдения[37].
В екатерининскую эпоху была дан могучий толчок научным экспедициям. Они были организованы Академией наук с целью выявления природных богатств страны, изучения географии, этнографии, зоологии, ботаники. В ходе экспедиций Воронежский край посетили видные российские ученые. Профессор ботаники Самуил Готлиб Гмелин проехал через Воронежскую губернию с севера на юг. Он провел раскопки в Костенске, полагал, что там находятся «слоновые кости», написал относительно подробный очерк о растительности в окрестностях Павловска. Иоганн Антон Гюльденштедт путешествовал по другому маршруту, обговоренному со своим коллегой. Больше месяца он жил в Новохоперской крепости. В окрестностях Воронежа, а также на берегах рек Хопра и Савалы ученый обнаружил несколько примечательных растений. И.А. Гюльденштедт первым правильно объяснил происхождение чернозема, описал почвы, флору и фауну края.
В 1769 году товарищем (заместителем) воронежского губернатора был назначен человек с нерядовой для провинциального чиновника той эпохи биографией – Никита Иванович Попов (1720–1782 гг.). Он учился в московской Славяно-греко-латинской академии, окончил Академический университет. Работал переводчиком с немецкого и латинского языков, двадцать лет трудился в астрономической обсерватории, возглавлял научную экспедицию в Сибирь, хорошо знал и поддерживал дружеские отношения с М.В. Ломоносовым. На научном поприще Попов дослужился до звания профессора астрономии[38].
Во второй-третьей четверти XVIII в. происходило укрепление позиций города Воронежа как губернского центра и дальнейшее поступательное развитие всего региона.
[1] Комолов Н.А. Становление города Воронежа как губернского центра (1709–1715) // Девятые всероссийские краеведческие чтения. М., 2016. С. 637–642.
[2] Комолов Н.А. Административно-территориальное устройство Центрально-Черноземного региона в XVIII – начале XIX в. // Воронежский вестник архивиста: научно-информационный бюллетень. Вып. 3. Воронеж, 2005. С. 81–82.
[3] Комолов Н.А. Очерк истории административно-территориального деления и органов власти города Борисоглебска в XVIII в. // Материалы региональной краеведческой конференции «Земля Борисоглебская – цепь времен». Воронеж, 2021. С. 57–65.
[4] Комолов Н.А. Высшая администрация Воронежской губернии во второй – третьей четверти XVIII в.: состав, служба и полномочия// Вестник ВГУ. Сер. История, политология, социология. 2006. № 1. С. 25–32.
[5] Комолов Н.А. Однодворцы Воронежской губернии в губернаторских проектах середины 1760-х годов // Общественное движение и культурная жизнь Центральной России XIV–XXвеков: cб. науч. тр. Воронеж, 2006. С. 65–83.
[6] Акиньшин А.Н., Ласунский О.Г. Записки старого пешехода. Изд. 2-е, доп. и испр. Воронеж, 2002. С. 67.
[7] Подробнее см.: Комолов Н.А. Калейдоскоп воронежской истории. Воронеж, 2008. С. 168–177.
[8] Комолов Н.А. Органы следствия, суда и надзора в российской провинции XVIII века (на материалах Белгородской и Воронежской губерний). Воронеж, 2007. С. 99.
[9] Акиньшин А.Н. Гарденинский историко-архитектурный комплекс XVIII века в Воронеже // Воронежский край на южных рубежах России (XVII–XVIII вв.). Воронеж, 1981. С. 98–108; Попов П.А. Здравствуй, старый дом! Самые замечательные здания Воронежа. Кн. 1. Воронеж, 2014. С. 6–43.
[10] Комолов Н.А. Калейдоскоп воронежской истории. С. 52–57.
[11] Чесноков Г.А. Генеральные планы Воронежа // Воронежская энциклопедия: в 2 т. Т. 1. Воронеж, 2008. С. 191.
[12] Грибовский В., Сень Д. Бахты Гирей и проблема стабилизации границ Российской и Османской империй в первой трети XVIII века // WschodniRocznikHumanistyczny. T. VIII (2012). С. 99–101.
[13] Акиньшин А.Н. Бутурлиновка // Воронежская энциклопедия. Т. 1. С. 111–112.
[14] Ферронский И. Хворостань (Очерк из истории колонизации края) // Воронежская старина. Вып. 7. Воронеж, 1908. С. 279, 281.
[15] Очерки истории воронежского края. Воронеж, 1961. Т. 1. С. 132–134.
[16] Комолов Н.А. Занимательный алфавит воронежской истории. С. 104–106.
[17] Комолов Н.А. Калейдоскоп воронежской истории. С. 146–152.
[18] Недосекин В.И. Металлургическая промышленность Черноземного Центра России в середине XVIII в. // Известия Воронежского государственного педагогического института. Т. 31. Воронеж, 1960. С. 93.
[19] Проторчина В.М. Суконная промышленность в Воронеже в XVIII веке // Из истории воронежского края. [Вып. 1]. Воронеж, 1961. С. 59–61.
[20]Акиньшин А.Н. Воронежское купечество в начале правления Екатерины II (1760-е – 1770-е гг.) // Проблемы исторической демографии и исторической географии Центрального Черноземья. Москва ;Курск, 1994. С. 70–76.
[21] Комолов Н.А. Рибенсдорф // Воронежская энциклопедия. Т. 1. С. 150–151.
[22] Описание Воронежского наместничества 1785 года. Воронеж, 1982. С. 22–24.
[23] Комолов Н.А. Однодворцы в социальной структуре южнорусского региона в XVIII в. // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2006. № 4. С. 159–160; Его же. Продворянские настроения в общественном правосознании южнорусских однодворцев XVIII в. и правительственное законодательство // История общественного сознания: становление и эволюция: сборник памяти А.О. Амелькина. Воронеж, 2008. С. 88–89.
[24] Проторчина В.М. К вопросу о составе населения г. Воронежа в период первой ревизии. (XVIII в.) // Из истории воронежского края. Вып. 3.Воронеж, 1969. C. 121, 126.
[25] Проторчина В.М. Население г. Воронежа в период второй ревизии (1743–1745 гг.) // Из истории воронежского края. Вып. 4. Воронеж, 1972. С. 106.
[26] Проторчина В.М. Население г. Воронежа в период третьей ревизии (1762–1765 гг.) // Из истории воронежского края. Вып. 5. Воронеж, 1975. С. 72.
[27] Комолов Н.А. Тавровская крепость в первой половине 1740-х гг. // Из истории воронежского края:сб. ст. Вып. 18. Воронеж, 2011. С. 82–85.
[28] Комолов Н.А. Попытка учреждения нового Адмиралтейства на Дону (1736–1738 гг.) // Исторические записки: науч. тр. исторического факультета ВГУ. Вып. 14. Воронеж, 2010. С. 130–138.
[29] Комолов Н.А. Калейдоскоп воронежской истории в портретах и зарисовках. Воронеж, 2022. С. 97–104.
[30] Материалы для истории русского флота. Ч. 6. СПб., 1877. С. 269.
[31] Комолов Н.А. У истоков Воронежа и Новохоперска: крепости, церкви, верфи. Воронеж, 2011. С. 40–43.
[32] Комолов Н. Петр Федорович «подлинно жив» // Родина. 2010. № 2. С. 117–119.
[33] Недосекин В.И. Попытка Е.И. Пугачева поднять восстание на Дону, Украине и в Черноземном центре России в июле – сентябре 1774 года // Из истории воронежского края. [Вып. 1].
[34] Воскобойникова Н.П. Волнение в малороссийских слободах Воронежского уезда в 1767–1768 гг.: Хроника событий // Из истории воронежского края: сб. ст. Вып. 8. Воронеж, 2000.
[35] Пыльнев Ю.В. Адмиралтейская «русская школа» // Воронежская энциклопедия. Т. 1. С. 24.
[36] Комолов Н.А. Развитие духовного образования в Воронежской епархии в конце XVII–XVIII вв. // Вклад Воронежской Православной Духовной Семинарии в развитие образования и культуры Воронежского края и России. Материалы конференции. Воронеж, 2006.
[37] Комолов Н.А. Калейдоскоп воронежской истории. С. 88–94.
[38] Комолов Н.А. Калейдоскоп воронежской истории в портретах и зарисовках. С. 191–195.
Николай Комолов, кандидат исторических наук, краевед (Воронеж)