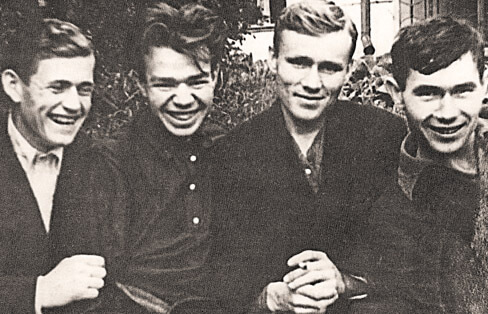
Рано ушедший гений
- 17.03.2021
Когда мы говорим о людях, которые ушли очень рано, то можем лишь предполагать, как бы развивалось их творчество в дальнейшем. То многое, что успел совершить Василий Кубанев, наталкивает на мысль, которую сформулировал Константин Симонов. Познакомившись с творчеством поэта, он написал: «С горечью думаешь, что смерть на 21-м году жизни утащила из литературы человека, который, будь он жив, был бы способен сделать в этой литературе больше, чем ты сам сделал, и больше, чем сделали многие другие, дожившие до своего возраста писатели». Эти слова — из письма Борису Стукалину, человеку, сделавшему очень много для сохранения творческого наследия Василия Кубанева. Суждение Симонова перекликается с высказыванием Льва Толстого о Лермонтове: «Если бы этот мальчик остался жив, то не нужны были бы ни я, ни Достоевский».
В школьном и послешкольном возрасте Кубанев многому учится самостоятельно. Борис Стукалин вспоминает о своей первой встрече с ним. Он пишет, что к тому времени уже был знаком с публикациями поэта в «Новой жизни» (острогожская районная газета Воронежской области — Ред.), и в воображении ему представлялся человек, умудренный жизненным опытом. Василий оказался совсем юным, что никак не вязалось с его печатными выступлениями. В дальнейшем Стукалин убедился, что Кубанев знает во много раз больше, чем каждый из его ровесников. Юный поэт всего достигал при помощи чтения, самообразования. В частности, много сил потратил на изучение немецкого и латинского языков, на французском вообще свободно читал. Знакомился с произведениями Гюго и Бальзака в подлиннике, даже пришел к выводу, что переводы Беранже очень уступают первоисточнику. Он пишет: «Спать, зная, что не прочитаны десятки тысяч книг — что может быть тупее?» Ему все время казалось, что знания нужно добирать постоянно, ежеминутно, ежесекундно.
Василий Кубанев с ранних лет был увлечен Маяковским, полагая, что его опыт — генеральная линия развития поэзии. Достижения многих других стихотворцев казались ему несущественными. Он, например, был очень рад встрече с курским поэтом Николаем Асеевым, но интерес возник, прежде всего, как к другу Маяковского и автору поэмы «Маяковский начинается».
В стихотворении «Он прост и велик» Кубанев явно пытается подражать Маяковскому и пишет, что практика других поэтов — не для него. Обратите внимание, какие фамилии он называет:
Я помню
первую встречу
с ним.
Я, малыш,
себе мир открывал
наощупь.
И брал
со словесных кипящих нив
То,
что полегче,
и то,
что попроще.
Я покой
охотно на игры менял,
Сердцем любя
непоседливость детства.
Спокойные ямбы
стесняли меня.
И некуда было
от ямбов мне деться.
Томики с вывесками
«Майков» и «Фет»
Плотно смыкали
свои корешки.
Скучно-красивые,
как коробки
из-под конфет
Или
как мертвые бумажные венки…
Это очень напоминает стремление Маяковского «бросить ямб картавый» и писать совершенно по-другому. Опыт Фета и Майкова — как раз то, от чего Кубанев хочет дистанцироваться.
Вот как он определяет творческий почерк Маяковского, метрическую особенность его стихов:
Размер —
могуч,
подвижен,
не строг.
И мысль —
как следы
на снегу подталом.
В этих железных
изломах строк
Пряталось то,
чего мне не хватало.
Я уже не ходил
пешком под стол,
Но, к ямбам привыкший
с начала роста,
Не знал,
что можно писать
о простом
Так увесисто,
жарко
и просто.
Маяковский интересен Кубаневу не ранний, а тот, агитатор-горлан-главарь, о котором Пастернак, напротив, писал: «Этот Маяковский чужд мне, этот Маяковский мне непонятен».
Дарование Василия Кубанева стремлением к стиху, выходящему за пределы силлаботоники — к акцентному стиху, не ограничивалось. Он несколько искусственно пытался себя загонять в рамки, которые определялись поэзией Маяковского и уже к тому моменту были канонизированы. Но в стихотворении 1939 года «Осень» поэт пользуется тем самым ямбом, от которого пытался уйти. Возможности четырехстопного ямба безграничны, по словам Александра Кушнера, автора 50 книг лирики и ряда статей о классической и современной русской поэзии. И действительно, «Осень» демонстрирует, что как бы ни пытался автор ломать стихотворные размеры в духе Маяковского, он все равно подсознательно возвращается к классике.
Озноб осенний землю жжет,
Гудят багровые дубравы,
Горят их яркие обновы,
И вот уж лес, как глина, желт.
Расшибла буря гнезд венцы,
В лепешку смяв в припадке диком.
Несутся птахи с хриплым криком,
Покинув милые дворцы.
То в высоту, то с высоты
Летят с закрытыми глазами,
Ломая крылья вдруг кустами,
Ломая крыльями кусты.
А полымя взахлест летит,
Обгладывая жадно кроны.
Пылает каждый клок зеленый,
И каждый лист горит, горит…
Удивительно, но это написано совсем молодым человеком, который только что вышел из школьного возраста. В письме Тасе Шатиловой Кубанев признается: «Я очень-очень люблю цветы. И музыку. Еще больше — стихи. Но детей я люблю больше, чем стихи, цветы и музыку — вместе взятые. Любить детей и быть любимым ими — большая радость, большое счастье».
В стихотворении «Откровенность» он говорит от имени ребенка:
Смотрят взрослые на нас с участьем,
Недоверье не стерев с лица.
Разве могут настоящей страстью
Зажигаться у детей сердца?
Милые, попробуйте измерить
Наших чувств клокочущих порыв.
Вы привыкли книжной страсти верить,
Собственное детство позабыв.
Наших дней раскат гремящ и звонок,
Наши годы вашим не чета,
В нашем возрасте любой ребенок
Взросл, как говорят, не по летам.
Тут автор художественно полемизирует с мыслью, которую любили цитировать в советское время, что дети «не совсем еще живут, а только жить готовятся». Он подчеркивает: «Я считаю, что детские переживания так же глубоки, и умозаключения так же серьезны, как и у взрослых, к тому же они чисты и свежи, а потому во много раз привлекательнее и интереснее, чем переживания взрослых. Дети и любят, и страдают, и радуются». Недолгий педагогический опыт Василия Кубанева отразился в его заметках. Он отметил, что сделал для себя один вывод: «…нельзя кричать на детей, как бы себя они ни вели, потому, что ты крикнул, и они замолчали, их реакция — это ожидание того, когда ты в следующий раз крикнешь. Они так живут — от одного крика до следующего».
По поводу своих стихов Кубанев писал: «Поэтом никогда я не буду и к стихам своим серьезно относиться не могу. Меня секут за это в каждом письме, но я упрямо повторяю: стихов я писать не буду и продолжаю писать. Не писать их я не могу». Василий вспоминает гремевших вскоре после 1917 года поэтов Пролеткульта — Гастева, Кириллова, пишет о том, что их строки давно забыты. И своим стихам предрекает примерно такую же судьбу: «…лет через 15–20 их забудут».
К счастью, не забыли…
Василий Кубанев полагал, что он сделает в литературе что-то более значительное скорее в области прозы, нежели в поэзии. «Мечтаю научиться писать и подарить людям несколько простых, сердечных и умных книг. Попробую это сделать лет через 15-20, когда я многое узнаю, увижу, передумаю, перечувствую, переделаю».
Среди любимых авторов он называет Ф.М. Достоевского. В те годы официальное отношение к великому русскому писателю было настороженным: на Первом съезде советских писателей немало нелицеприятного было сказано о его творчестве. И вот удивительно, что в этой ситуации для Кубанева среди прозаиков Достоевский является едва ли не главным авторитетом. Он все время подчеркивает: «…из современников в поэзии главная величина — Маяковский, в прозе — Горький, но Достоевский стоит вообще особняком». Причем совершенно неизвестно, какие его произведения успел прочитать Василий. Он пишет: «Мертвая голова Достоевского висит над моим столом. Не знаю, чей это рисунок, но сделано очень живо. Живой мертвец Федор Достоевский глядит на меня сквозь закрытые веки, и я улыбаюсь ему, когда мне очень скверно жить, я подхожу к рисунку и целую бумагу в том месте, где изображен лоб Достоевского».
Может показаться странным, что человек, который пишет стихи во многом под Маяковского, настолько трепетно относится к прозе Достоевского. В фельетонах и материалах Кубанева, которые были опубликованы в газете «Новая жизнь», влияние Достоевского никак не ощущается. Чтобы его обнаружить, необходимо читать переписку поэта с Верой Клишиной и другими корреспондентками. Чего стоит одна история, где он рассказывает о своем знакомстве с женщиной Анной Алексеевной и ее дочерью Светланой. Сюжет, можно сказать, прямо из Достоевского.
К Анне Алексеевне приходит некий мужчина, — Рябой, как она его называет, — и свидетелем этой встречи становится сам Василий Кубанев.
«Посреди комнаты стоял краснорожий, огромный, рябой мужчина и пинал ногами Анну Алексеевну, которая валялась на полу, обнимала его ноги и целовала их, прижимаясь к ним лицом.
— Прости! Не надо! — и называла Рябого по имени, которого я никак не могу вспомнить, что-то не то «Ванечка», не то «Сенечка».
Все это я увидел и подумал, может быть, в три секунды, еще не зная, что буду делать, когда меня увидят. Но Рябой уже увидел меня и, оттолкнув Анну Алексеевну, стал застегивать воротник своей рубашки.
— Ты кто такой? — сказал он.
— Я здесь рядом живу. Вы что тут кричите? У меня мать больная, — как-то неожиданно для себя соврал я. Анна Алексеевна поднялась с полу… Я понял, что так ничего с ним сделать нельзя, и что надо пустить в ход хитрость. Сделал вид, что очень его испугался и намереваюсь удрать, рассчитывая, что когда я побегу, он погонится за мной.
Так и вышло.
Я выбежал во двор, он — за мной, я отскочил подальше от двери, он — за мной, тогда я внезапно повернул назад и скрылся в сенях, захлопнув за собой дверь и закрыв ее на щеколду…»
Далее, опять-таки в духе Достоевского, Анна Алексеевна пытается исповедоваться перед Василием:
«…все это осталось в моей душе как один из самых жутких эпизодов в моей жизни. Мне хотелось остановить ее, потому что я знал: после она будет раскаиваться в том, что говорит мне сейчас о себе, о своей душе, о своей судьбе. Но я почему-то не мог ее остановить и потом много раз проклинал себя за это. Когда она кончила, я стал говорить ей что-то, стараясь говорить как можно гуще и проще. Когда я вышел на свежий воздух, мне показалось, что я несколько месяцев пролежал в могиле…»
Это уже не просто письмо — это проза, причем высокохудожественная.
А еще, для примера, возьмем размышления Кубанева о смерти. Письмо, адресованное Вере Клишиной, датировано 6 марта 1939 года, а 6 марта 1942 года Василий ушел из жизни. Тут он рассуждает о том, что такое смерть и как она к нему придет:
«Нет, наверное, мне все-таки суждено рано умереть. Смотрю на смерть с безразличием, с холодностью, с бездумностью. Было время, когда смерть была для меня разрешением всего и от всего.
Пусть естественная смерть освободит меня от меня. Пусть рассыплюсь от себя, но не по своей воле. Ладно. Это все-таки лучше, чем умирать самоубийцей. Для меня самоубийство Маяковского — не трусость, а благоразумие и неизбежность. Но как объяснить это остальным? Да и нужно ли объяснять?
Нет, я не буду самоубийцей.
Когда бы ни пришла моя смерть — через полмесяца или через двадцать лет, — я всегда приму ее как заслуженное. Не как заслуженное наказание и не как заслуженное благо. А просто как заслуженное. Как неотвратимое. Нужно ли вообще жить? Нужно постольку, поскольку ты появился на свет. И, однако же, не жить, не появляться — высшее счастье. Выше, чем самоуничтожение жизнью».
Размышления автора о смерти наталкивают на мысль, что во многом на публике, в общении с другими людьми, в газете, да порой и в поэзии он был в какой-то маске. Надевал на себя маску человека, который обладает неким знанием, которое позволяет ему наставлять на путь истинный других людей, учить их не только поэзии, учить их жизни.
Таким, совершенно незащищенным человеком, для которого главное в жизни — чтение, литература, а уже через литературу — познание жизни, Кубанев предстает в переписке, причем респондентами его являются преимущественно девушки. Кроме уже названной Веры Клишиной, была еще пара адресатов, которым он направлял свои потаенные размышления. Здесь он оказывается тем самым человеком, которым мог быть только наедине с собой.
Как могло бы развиваться в дальнейшем его творчество? Можно предположить, что он постепенно освобождался бы от влияния «маяковщины», находя свой, только ему присущий поэтический голос. Если же говорить о прозаических замыслах, — а он все время замечает, что ему хочется написать что-то большое, значительное в прозе, — то, кто знает, каких психологических глубин достигла бы эта проза… Остается только сожалеть, что человек, который уже в юности многого достиг с помощью самообразования, прожил такую короткую жизнь.
Борис Стукалин подчеркивал: «Хотя мы были почти ровесниками, но я всегда знал, что он литературу понимает значительно лучше и глубже, чем я и мои ровесники». Василий Кубанев обладал огромным творческим потенциалом. К сожалению, воплотить в слове он успел лишь малую часть своего дарования.







