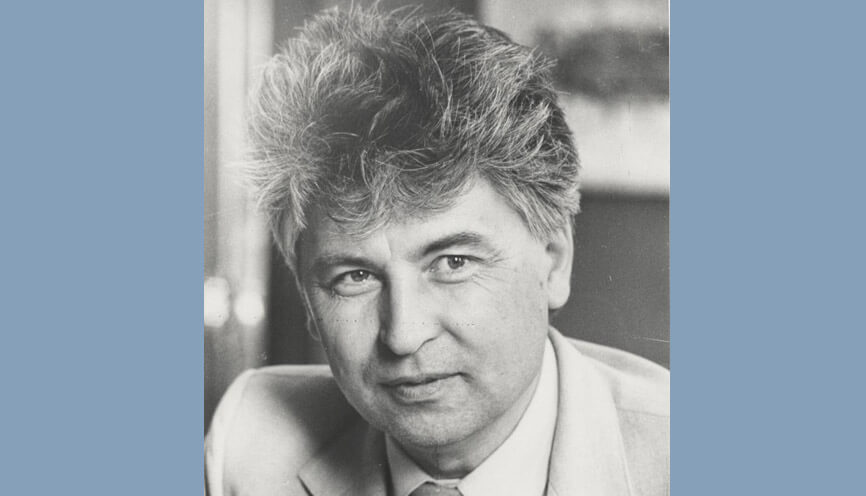
ИЗБРАННИК ДУХА. 220 лет великому русскому поэту Фёдору Тютчеву
- 17.01.2024
Из всех русских поэтов Федор Иванович Тютчев, пожалуй, меньше, чем кто-либо, заботился о своей литературной известности. Он начал печататься, как и многие другие писатели, в молодости; двадцати трех — двадцати четырех лет уже публиковал свои стихи в альманахах «Урания» и «Северная лира», а затем — в журналах «Русский зритель», «Галатея», «Атеней», «Телескоп» и других. Хотя эти издания в тогдашней России были негромкими, творческому самочувствию молодого поэта ничто не могло повредить: к его стихам проявляли внимание в разных редакциях.
Да и сам Тютчев, вероятно, сознавал, каким даром владеет. Среди первых же напечатанных произведений были и те, что позднее вошли в число его шедевров: «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»), «Летний вечер» («Уж солнца раскаленный шар…»), «Бессонница» («Часов однообразный бой…»), «Утро в горах» («Лазурь небесная смеется…»), «Сны» («Как океан объемлет шар земной…»), «Последний катаклизм» («Когда пробьет последний час природы…»), «Цицерон» («Оратор римский говорил…»), «Весенние воды» («Еще в полях белеет снег…»), «Silentium»(«Молчи, скрывайся и таи…»1).
Но Ф. Тютчев как-то очень уж небрежно относился к собственному сочинительству, не придавал ему никакого значения. «…возвращаюсь к моим виршам, — мимоходом писал он в одном послании. — Делайте с ними, что хотите, без всякого ограничения или оговорок, ибо они — ваша собственность». И там же: «…я сильно сомневаюсь, чтобы бумагомаранье, которое я вам послал, заслуживало чести быть напечатанным, в особенности отдельной книжкой».
А между тем, он любил поэзию как занятие, открывал в ней все новые и новые имена, знал ее могучее воздействие на людей. Известный переводчик Семен Раич, приглашенный родителями юного Федора в качестве наставника сына, сумел разглядеть в нем поэтические способности и сделал многое для того, чтобы развить их. «С удовольствием, — писал он позже, — вспоминаю я о тех сладостных часах, когда, бывало, весною и летом, живя в подмосковной, мы вдвоем с Ф.И. выходили из дому, запасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных писателей и, усевшись в роще, на холмике, углублялись в чтение и утопали в чистых наслаждениях красотами гениальных произведений поэзии!
Около года никому не показывал я опытов моих в переводах2, кроме Ф.И.Тютчева, вкусу которого я вполне доверял: необыкновенно даровитый от природы, он был уже посвящен в таинства поэзии и сам с любовью занимался ею; по тринадцатому году он переводил уже оды Горация с замечательным успехом…»
Способности Тютчева с детства были поразительными. В шестнадцать лет он поступил на словесное отделение Московского университета и уже через два года окончил его.
Федор Иванович определился в Государственную коллегию иностранных дел и был направлен в русскую дипломатическую миссию в Баварию.
В нашей критической литературе очень подробно живописуют, как А. Пушкин через вторые руки получил из Германии рукопись стихов Ф. Тютчева, пришел в восхищение от них и вскоре напечатал в своем журнале «Современник». Но при этом скупо и невнятно объясняют читателю, как же это тридцатидвухлетний дипломат, оторванный от родины уже тринадцать лет, вдруг создал стихи, поразившие великого Пушкина? Как это строки «безвестного», чуть ли не «начинающего» автора (по многим публикациям выходит так) оказались написанными с высочайшим мастерством, европейским кругозором, глубоким знанием античного и средневекового искусства? И как это автор вдали от родины не только не забыл родной культуры, русского языка, но и показал искусное владение этим языком и кровную связь со всем, что так дорого всякому русскому — с природой, сказками, поверьями, бытом Отечества? Не это ли ощущаешь, читая присланные с чужбины строки:
Что ты клонишь над водами,
Ива, макушку свою
И дрожащими листами,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?
Или другое, которое, кажется, можно написать лишь среди глухих русских просторов, болезненно переживая их необжитость и неухоженность:
Песок сыпучий по колени…
Мы едем — поздно — меркнет день,
И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.
Черней и чаще бор глубокий —
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста!
Так как же Тютчев написал это в чужих краях, девятнадцати лет оставив родные пенаты?
* * *
Он всегда, с детства, любил учиться. К рассказу С. Раича добавим свидетельства университетского товарища Тютчева Михаила Погодина, впоследствии известного историка, профессора, редактора журнала «Москвитянин». Погодин вел дневник и во многих записях рассказал о своих беседах с приятелем.
«1820 г. (заметим, что Ф.Тютчеву только семнадцать лет. — А.Р.). 9 августа. Разговаривал с ним о немецкой, русской, французской литературе, о религии, о Моисее, о божественности Иисуса Христа, об авторах, писавших об этом: Виланде, Лессинге, Шиллере, Аддисоне, Паскале, Руссо… Еще разговаривал о бедности нашей в писателях. Что у нас есть? Какие книги имеем мы от наших богословов, философов, математиков, физиков, химиков, медиков? О препятствиях у нас к просвещению. Тютчев прекрасный молодой человек!»
«13 октября. Говорил с Тютчевым … о русской словесности, о влиянии, какое словесность одного языка имеет на словесность другого, о немецкой словесности, о преимуществе ее пред французскою, об образе преподавания. Мерзляков3 должен, сказал Тютчев, показать нам историю русской словесности, должен показать, какое влияние каждый писатель наш имел на ход ее, чем именно способствовал к улучшению языка, чем отличается от другого и проч. Это правда».
М. Погодин упоминает разговоры с товарищем о молодом Пушкине, «о свободном и благородном духе его мыслей», об оде его «Вольность». Тютчев восхищался поэмой «Руслан и Людмила», высказывал суждения о Лессинге, Гете и Шиллере, советовал Погодину перевести на латинский язык «Слово о полку Игореве». Автор дневника неизменно подчеркивал: «Тютчев имеет редкие, блестящие дарования».
И вот этот человек, окончивший университет со степенью кандидата словесных наук, попадает в Европу. Он дружески общается с выдающимся немецким философом Шеллингом и великим поэтом Генрихом Гейне, переводит его стихи, а также произведения Гете и Шиллера, со жгучим вниманием следит за политической и духовной жизнью ведущих европейских стран. Иван Аксаков, написавший биографию Тютчева, утверждал: «Он уже и в России учился лучше, чем многие его сверстники — поэты, а германская среда была еще способнее расположить к учению, чем тогдашняя наша русская, и особенно петербургская. Переехав за границу, Тютчев очутился у самого родника европейской науки: там она была в подлиннике, а не в жалкой копии или карикатуре; у себя, в своем дому, а не в гостях, на чужой квартире». Поэт, по словам Аксакова, в познании нового «не только никогда не знал пресыщения, но и сытости никогда не давала ему никакая умственная трапеза. Это был пламень, мгновенно пожиравший всякое встречавшееся ему и им самим творимое явление мысли и непрерывно вновь сам из себя возгоравшийся…»
Братья Иван и Петр Киреевские, встречавшиеся с Тютчевым в Мюнхене в первые годы его пребывания там, были покорены, как признавался Петр, его «умом, образованностью и необыкновенной добротой». Иван в 1830 году, при отъезде поэта в отпуск на родину, писал: «Желал бы я, чтобы Тютчев совсем остался в России. Он мог бы быть полезен даже только присутствием своим, потому что у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам».
Но при всем том все привязанности поэта оставались русскими. Его постоянной, неослабевающей страстью было — постигать Россию, осмысливать любое событие — политическое, общественное, литературное — с точки зрения его пользы или вреда для своей родины. «Хоть я и не привык жить в России, — писал он родителям из Мюнхена, — но думаю, что невозможно быть более привязанным к своей стране, нежели я, более постоянно озабоченным тем, что до нее относится».
Мы не будем касаться его живейшего отклика на всякое значительное событие европейской и русской политики, идет ли речь о восстании в Польше или о распрях Германии и Австрии со своими соседями. Не будем касаться многочисленных и необычных по прозорливости писем Тютчева, адресованных видным сановникам и друзьям-литераторам и содержавших политические оценки. Это, конечно, говорит о том, как глубоко переживал он за судьбу России, ее успехи и неудачи в сообществе народов. Но нас больше интересует сращенность Тютчева с духовной жизнью родины, ее прошлой и современной культурой. А это тоже полно отражается и в стихах, и в письмах поэта.
Возьмите его наиболее известные стихи о природе, написанные до 1844 года, до возвращения Тютчева в Россию. Впечатление такое, что они созданы на родине. И дело не в каких-то приметах русского пейзажа; как раз особых, свойственных нашей природе, примет-то в тютчевских стихах нет. Но есть что-то, что трудно определить одним словом, — некое воодушевление, очарованность, которые испытывает русский человек при виде родных снегов, весеннего половодья или расцветшего луга. Не скажешь: чисто русский пейзаж, но скажешь: чувство, которое рождается картиной, — родственное, многократно пережитое.
ВЕСЕННИЕ ВОДЫ
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят…
Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой Весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»
Весна идет, весна идет,
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!..
Еще в начальной школе учили мы наизусть стихотворение Федора Тютчева «Весенняя гроза». Но если бы учительница сказала: «Дети, эти стихи написаны в Германии, молодым русским поэтом, который совсем юным уехал туда. Наверно, он тосковал о родине и написал стихотворение как воспоминание о ней». Такое объяснение было бы чуждо и непонятно любому ребенку. Какая Германия, когда каждое слово в «Весенней грозе» — про нашу деревенскую грозу! Если и непонятно что-то в стихах, так это «перлы дождевые» да Геба с Зевесовым орлом, — но их можно простить Тютчеву: он же поэт старинный.
ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный —
Все вторит весело громам.
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
Современники говорили, что Тютчев до конца своих дней сохранял привычку прочитывать все самое интересное, что появлялось в отечественной литературе. Он пишет из Мюнхена: «…я с истинным наслаждением прочитал три повести Павлова4, главным образом последнюю.
Кроме художественного таланта, достигающего тут редкой зрелости, я был в особенности поражен возмужалостью, совершеннолетием русской мысли… Мне приятно воздать честь русскому уму, по самой сущности своей чуждающемуся риторики, которая составляет язву или скорее первородный грех французского ума. Вот отчего Пушкин так высоко стоит над всеми современными французскими поэтами…»
Тютчев выписывает журнал «Современник», постоянно просит родных и знакомых прислать ему из России книжных новинок. А вернувшись домой, ищет публикации, пропущенные им. Так, он, зная неохоту П. Вяземского одалживать кому-либо книги, слезно просит у него «несколько русских книг, например, один или два тома Гоголя, последнего издания, где находятся отдельные произведения, с которыми…» он «еще не знаком».
Особый интерес проявил Ф. Тютчев в годы заграничной службы к родному фольклору и древнерусской литературе. На эти сокровища у него был свой, мудрый, взгляд. Как это не раз случалось с поэтом, осознать богатства отечественной культуры ему помогла именно европейская жизнь. Он писал П. Вяземскому: «…враждебность, проявляемая к нам Европой, есть, может быть, величайшая услуга, которую она в состоянии нам оказать. Это, положительно, не без промысла. Нужна была эта, с каждым днем все более явная враждебность, чтобы принудить нас углубиться в самих себя, чтобы заставить нас осознать себя. А для общества, так же как и для отдельной личности, — первое условие всякого прогресса есть самопознание».
Вторая четверть девятнадцатого века как раз и стала для причастных к русскому искусству и культуре временем осознания своего духовного родословия. Произошел гигантский всплеск интереса к самобытному народному творчеству, к нашей древней литературе. Вышли в свет знаменитые «Древние стихотворения, собранные Киршей Даниловым», памятник литературы пятнадцатого века «Сказание о Мамаевом побоище», несколько исследований фольклориста И. Сахарова «Песни русского народа», «Русские народные сказки», «Сказания русского народа», «Русские древние памятники», началась публикация полного собрания русских летописей. Появились подвижники национальной культуры: братья П. и И. Киреевские начали собирать образцы отечественного фольклора, доктор В. Даль приступил к осуществлению своего звездного замысла — созданию «Толкового словаря живого великорусского языка». Многие поэты и прозаики увлеклись обработкой народных сказок и песен, созданием собственных песен, близких к фольклорным. Это подвижничество талантливых людей не могло пройти мимо внимания Федора Тютчева. Помните, как просил он М. Погодина перевести «Слово о полку Игореве» на латинский язык (его понимали и немцы, и французы, и испанцы, и, конечно, итальянцы); или как восхищался пушкинской поэмой «Руслан и Людмила». Подтверждение того, что пристрастие Тютчева студенческой поры к творчеству родного народа не угасало, а разгоралось, пришло к нам от немецкого писателя Э. Варнгагена, с которым молодой русский дипломат подружился в Мюнхене. Соотечественник Гейне записал в своем дневнике: «С необычайным знанием дела рассказывал Тютчев об особенностях русских людей и вообще славян; он выказал возвышенный исторический взгляд на старинные несогласия и борьбу между церквами латинскою и греческою, о наречиях, нравах и формах правления; сообщил о новых открытиях в области русской средневековой литературы, особенно в духовной; также по части летописей, песен и былин. Все кажется новым, как было одно время и у нас с Нибелунгами, Миннезингерами5 и т.д.»
Для каждого писателя, пожалуй, сомнительной похвалой будут слова: «Он хорошо знает родной язык». И все же корифеи нашей литературы по-особому, виртуозно владели родным языком, прекрасно знали его изобразительные, живописные возможности.
Тютчев принадлежал именно к таким мастерам слова. Получив, к примеру, новое стихотворение Петра Вяземского, своего старшего друга, он советовал автору: «…я полагаю, что лучше будет в стихе: “И нет конца твоим стрелам…” — поставить так: “И счету нет твоим стрелам…”, по той причине, что конец стрел может, пожалуй, означать острие стрел, и в таком случае фраза оказалась бы несколько двусмысленной».
Рассказывали, что Лев Толстой, чародей прозы, как-то вспоминал: «Когда я жил в Петербурге после Севастополя, Тютчев, тогда знаменитый, сделал мне, молодому писателю, честь и пришел ко мне. И тогда, я помню, меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах, говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне свое одобрение по поводу моих “Севастопольских рассказов”, особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нем удивила чрезвычайно». С книгой Тютчева в руках мы полностью согласимся с выводом историка и философа Юрия Самарина, дружившего с Федором Ивановичем: в русском языке поэту «удалось отыскать… такие тонкости, такие богатства и средства, которые в нем были несомненно, но которых никто не подозревал».
Осенью 1854 года, когда Россия вела тяжелейшую войну с Турцией и союзными с нею Англией и Францией, Тютчев взывал, как к могучей духовной опоре, к родному языку — и какие слова нашел поэт в его глубинах! Эти строки могли удесятерить силы наших отцов в Великую Отечественную, они звучат для нас призывом в нынешнюю черную годину России и останутся наказом будущим поколениям:
Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное…
Ложь воплотилася в булат;
Каким-то божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем…
Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!
Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, —
Ты — лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!
О, в этом испытанье строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед богом…
Заключая эту часть разговора, хочу отослать вас еще к одному современнику поэта. К Ивану Аксакову, мужу старшей дочери Тютчева, Анны, автору биографического очерка о Федоре Ивановиче. По-моему, он открыл один из главных секретов творчества поэта. Подтвердив в очередной раз, что Тютчев в общении часто говорил по-французски и даже многие статьи, адресованные зарубежному читателю, писал на этом языке, Аксаков убежденно заявлял: «А между тем стихи у Тютчева творились только по-русски (курсив автора. — А.Р.). Значит, из глубочайшей глубины его духа била ключом у него поэзия, из глубины, недосягаемой даже для его собственной воли; из тех тайников, где живет наша первообразная природная стихия, где обитает самая правда человека…»
Ну а как же без этой потаенной силы, без «природной стихии» в душе могли бы родиться строки, ставшие образом самой России, ее точным пластическим слепком:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
* * *
Итак, в мае 1836 года Иван Гагарин, сослуживец Федора Ивановича и большой поклонник его поэзии, атташе в Мюнхене, отозванный в Петербург, передал в журнал «Современник» рукопись стихов Тютчева. Они вызвали радостное одобрение А. Пушкина, В. Жуковского, П. Вяземского. Шестнадцать произведений Александр Сергеевич сразу же поместил в третьем томе своего журнала за тот год и восемь — в следующем, четвертом. Петр Плетнев, продолживший после гибели Пушкина издание «Современника», рассказывал: «Еще живы свидетели того изумления и восторга, с каким Пушкин встретил неожиданное появление этих стихотворений, исполненных глубины мыслей, яркости красок, новости и силы языка. Во всем была ощутительна свежая кисть художника. Он каждому предмету сообщает ясный образ, привлекательное положение и удивительную грацию».
В этой оценке тютчевских стихов не зря на первом месте стоит «глубина мыслей». Вероятно, это качество в первую очередь бросилось в глаза и Пушкину. Неожиданно открытый им автор предложил читателю свои поэтические размышления, философское осмысление того, что он видел, что пережил. Тютчев продолжил русскую философскую лирику, в которой уже так много сказал и сам Александр Сергеевич, и его предшественники и современники — Г. Державин, К. Рылеев, Е. Баратынский, К. Батюшков, Д. Веневитинов, П. Вяземский. Но он не просто продолжил их линию, он создал поэтический мир, в котором царила Мысль.
Даже стихи о природе, даже стихи о любви к женщине — строки любого лирического монолога Ф. Тютчева одухотворены мыслью, освещены ею; они рождают у нас ощущение, что картину природы или возвышенное, а то и мучительно болезненное чувство рисует поэт, ищущий в них духовную сущность. В самом деле, прочтите:
ОСЕННИЙ ВЕЧЕР
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть!..
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья!
Сокровенный смысл пейзажа, связь природы с чувствами и настроениями человека — все это занимало не только русскую, но и мировую лирику во все времена. В мировой поэзии составят тома стихи, которые передают голос «мыслящей» природы. Но для Тютчева это непреложная истина, постоянно присутствующая в его стихах. Для него любое явление природы таит в себе мысль — вечную и живую, до поры скрытую и неизреченную.
О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!..
О! страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О! бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..
Вы скажете: да, философски осмысливать жизнь природы — это способность, а может быть, и обязанность поэта. Но стихи о любви — какая философия может сопутствовать этому чувству, глубоко личному, часто трудно объяснимому и такому богатому по своим проявлениям? Стихи Тютчева — доказательство того, что и этому переживанию может сопутствовать размышление, тоже очень личное и в то же время поучительное для читателя, обогащающее его, отмеченное высшим знанием человеческой души. Ярче всего эта черта тютчевской лирики проявилась в строках, обращенных к Елене Александровне Денисьевой, необыкновенной женщине, которая была на двадцать три года моложе Федора Ивановича. Их любовь, их дети, рожденные вне брака, — все это принесло обоим много страданий и счастья.
Стихи «денисьевского» цикла отмечены мучительными, смешанными чувствами небесного блаженства и вины поэта перед любимой женщиной, вины, конечно, мнимой:
Играй, покуда над тобою
Еще безоблачна лазурь;
Играй с людьми, играй с судьбою,
Ты — жизнь, назначенная к бою,
Ты — сердце, жаждущее бурь…
Как часто, грустными мечтами
Томимый, на тебя гляжу,
И взор туманится слезами…
Зачем? Что общего меж нами?
Ты жить идешь — я ухожу.
Я слышал утренние грезы
Лишь пробудившегося дня…
Но поздние, живые грозы,
Но взрыв страстей, но страсти слезы, —
Нет, это все не для меня!
Но, может быть, под зноем лета
Ты вспомнишь о своей вине…
О, вспомни и про время это,
Как о забытом до рассвета,
Нам смутно грезившемся сне.
Теперь посмотрим, сколько прозорливых и горьких открытий, сопутствовавших поздней любви, оставил нам Тютчев в стихах. Тут переплелось все: роковое слияние и роковой поединок двух любящих душ, отречение от молодости одного и страстный, так оправданный эгоизм другого, незаслуженный позор чистого существа и терзания опытного, благородного сердца, дикая молва толпы и святое право двоих на счастье… И над всей этой трагедией и окрыленностью человеческих судеб слышатся благословение небесного судьи, его мудрые глаголы:
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
……………………………….
Чему молилась ты с любовью,
Что, как святыню, берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала.
Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей
И ты невольно постыдилась
И тайн, и жертв, доступных ей.
Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!
………………………………………
Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И… поединок роковой…
…………………………….
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.
Мы редко сопоставляем личные качества поэта и его стихи. Бывает иногда, что провозглашаемое автором совсем не согласуется с его поведением. Тютчев был человеком, который свято соблюдал единство слова и поведения. В стихах и письмах он представлял себя даже в худшем свете, чем был в жизни. Высочайшая нравственная требовательность к себе, постоянно ощущаемая вина — все это составляет чувственную основу «денисьевского» цикла стихов и все это окрашивает их в трагические тона. А если прибавить к этому, что строки о личной драме поэта написаны с большим эмоциональным накалом и с полной искренностью, то станет понятно, почему они уже полтора столетия так жаляще действуют на читательские сердца.
Вот что писал Федор Иванович одному из близких людей в декабре 1864 года, через несколько месяцев после кончины Е. Денисьевой: «Я помню, раз как-то в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такой любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя — не имя, которого она не любила, но она. И что же — поверите ли вы этому? — вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование не совсем великодушно, что, зная, до какой степени я весь ее (“ты мой собственный”, как она говорила), ей нечего, незачем было желать еще других печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности. За этим последовала одна из тех сцен, слишком вам известных, которые все более и более подтачивали ее жизнь и довели нас — ее до Волкова поля6, а меня — до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке… О, как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем тупом непонимании того, что составляло жизненное для нее условие. Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал — и не понимал. Я, вероятно, полагал, что так как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы — и так пошло, так подло — на все ее вопли и стоны — отвечал ей этою глупою фразой: “Ты хочешь невозможного…”»
А вот как те же чувства проявились в поэзии:
Есть и в моем страдальческом застое
Часы и дни ужаснее других…
Их тяжкий гнет, их бремя роковое
Не выскажет, не выдержит мой стих.
Вдруг все замрет, слезам и умиленью
Нет доступа, все пусто и темно,
Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.
Ах, и над ним в действительности ясной,
Но без любви, без солнечных лучей,
Такой же мир бездушный и бесстрастный,
Не знающий, не помнящий о ней.
И я один, с моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу —
Разбитый челн, заброшенный волною
На безымянном диком берегу.
О господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей:
Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней, —
По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям, и судьбе, —
По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить,
По ней, по ней, так до конца умевшей
Страдать, молиться, верить и любить.
Ф. Тютчев выстрадал и запечатлел в любовных стихах много истин, которые необходимы нам как трагические уроки и как сокровенные пожелания. Не удивительно, что в одно время с приведенным выше стихотворением Федор Иванович пишет другое, адресованное его тридцатилетней незамужней дочери Дарье, выпускнице Смольного института и фрейлине императрицы. Судьба Е. Денисьевой как будто пророчит поэту драму его дочери — и он спешит ободрить ее, высказать ей свое желание — «…посвятить себя тебе, мое бедное, милое дитя, — тебе, столь любящей и столь одинокой, внешне столь мало рассудительной и столь глубоко искренней, — тебе, кому я, быть может, передал по наследству это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви, которая у тебя, мое бедное дитя, осталась неутоленной». А рядом стихи, посланные ей. И, конечно, читателю, вечности:
Когда на то нет божьего согласья,
Как ни страдай она, любя,
Душа, увы, не выстрадает счастья,
Но может выстрадать себя…
Душа, душа, которая всецело
Одной заветной отдалась любви
И ей одной дышала и болела,
Господь тебя благослови!
Он, милосердный, всемогущий,
Он, греющий своим лучом
И пышный цвет, на воздухе цветущий,
И чистый перл на дне морском.
* * *
Недалекие критики нередко так судят о поэтах: «Он был чиновником, а это несовместимо с поэзией». Или: «Он слишком увлекался политикой, событиями текущей жизни — это портило его стихи». Но служили многие поэты, даже и великие. Службе государственной (т.е. чиновничьей), военной, издательской, редакторской отдали дань и Державин, и Крылов, и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев, и Некрасов, и Блок, и Твардовский… Их души хватало и на это; причем их талант часто проявлялся и в службе. Увлечение политикой тоже не вредило великим поэтам. Возможно, благодаря этому появились бессмертные творения русской лирики: пушкинские «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», многие стихи Лермонтова, Некрасова и Тютчева, «Скифы» Блока, другие произведения отечественных поэтов.
Пример Тютчева наглядно показывает, что разнообразие его интересов и занятий вовсе не шло во вред творчеству. Поэт не тяготился ни службой, ни погруженностью в европейскую политику, скорее наоборот, отдавался «не поэтическим» заботам со всей страстью своей гениальной натуры.
Петр Плетнев, которого мы уже цитировали, пенял современникам: «В литературе нашей смотрят на Ф.И. Тютчева только как на одного из лучших поэтов. Но молодое поколение писателей успело уже убедиться, какой тонкий и высокий критический ум соединялся в нем с поэтическим талантом… Если бы когда-нибудь можно было, в дополнение к небольшому числу изданных им сочинений, присоединить все, чем он увлекает внимательный ум как публицист, как философ, как историк и даже юрист, то без сомнения в его лице представился бы нам замечательнейший человек нашего времени, не только по таланту и уму, но и по обширности современных знаний».
А публицист Владимир Мещерский, внук Н. Карамзина, с детства видевший Тютчева и в доме своих родителей, и в доме великого деда, писал: «Политика и поэзия, в самом широком значении этих двух понятий, были сущностью его жизни — политика мировой всецелой жизни человечества и политика как совокупность вопросов, живо и горячо затрагивающих интересы России и устраивающих ее будущность. Наряду же с политикой стояла и поэзия, являвшаяся чем-то родственным политике в духовном существе его; и в ней, как в мирной пристани, он находил себе утешение от людей, которые делали политические ошибки, и успокоение от событий, тревоживших его душу».
И в самом деле, только страстному увлечению событиями российской политики, как и поэтическому таланту Федора Ивановича, обязана русская лирика такими жемчужинами (поясним, что в стихотворении, которое вы прочтете, Тютчев имеет в виду государственного канцлера России графа К. Нессельроде, делавшего ставку на дружбу с Австрией в ущерб отношениям со славянскими странами):
Нет, карлик мой! трус беспримерный!..
Ты, как ни жмися, как ни трусь,
Своей душою маловерной
Не соблазнишь Святую Русь…
Иль, все святые упованья,
Все убежденья потребя,
Она от своего призванья
Вдруг отречется для тебя?..
Иль так ты дорог провиденью,
Так дружен с ним, так заодно,
Что, дорожа твоею ленью,
Вдруг остановится оно?
Не верь в Святую Русь кто хочет,
Лишь верь она себе самой, —
И бог победы не отсрочит
В угоду трусости людской.
То, что обещано судьбами
Уж в колыбели было ей,
Что ей завещано веками
И верой всех ее царей, —
То, что Олеговы дружины
Ходили добывать мечом,
То, что орел Екатерины
Уж прикрывал своим крылом, —
Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить!
Всемирную судьбу России —
Нет, вам ее не запрудить!..
Да и знаменитое:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить, —
родилось, конечно, в результате долгих раздумий над судьбой собственной «загадочной» страны.
Как любой крупный поэт и мыслитель, Тютчев современен. Не преходящая злободневность, а глубинные основы жизни, увиденные особым взглядом философа и провидца, делают его строки современными. Да, поэт был консерватором, да, он отвергал насилие, но правда, которую он говорил своему народу и царям, была мятежна, взрывна, неподвластна теориям, выгодным власти. У подлинного поэта эта правда не может быть иной. Прочтите, что он адресовал Николаю Первому:
Не богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые, и злые, —
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.
У Ф. Тютчева есть стихи, которые сегодня читаются как пророчество поэта, как тревога и надежда нашего современника. Приведу только одно из них. Такие стихи и ныне могут нравственно поддержать народ, который вновь страдает и жаждет свободы; уверенность поэта, что она придет и оживит народную душу, разгонит бесов, — целительна.
Над этой темною толпой
Не пробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..
Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит, и туманы…
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, —
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа…
* * *
Тютчев долго шел к русскому читателю. После публикаций в журнале «Современник» поэт ничего не предпринял для того, чтобы выпустить свои стихи отдельной книгой. Его строки время от времени появлялись в столичных журналах, но знали его немногие. И лишь в 1854 году редакция «Современника» издала первую книгу поэта. В 1868 году вышел, дополненный новыми стихами, второй сборник — и больше прижизненных книг Федора Ивановича не публиковалось. Такого примера, чтобы поэт огромного дарования, проживший семьдесят лет, издал только два сборника и оказался почти без внимания широкой публики, в русской литературе, пожалуй, не было. Но с Тютчевым оставалось признание подлинных ценителей поэзии — его великих современников, и это стало залогом того, что в конце концов его оценила вся Россия.
Лев Толстой признавался: «Когда-то Тургенев, Некрасов и Ко едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта». С тех пор вошедший в славу прозаик не расставался с томиком поэта.
Сохранились толстовские пометки на полях этой книги: «красота», «глубина» — с одним или несколькими восклицательными знаками. Философская миниатюра «Silentium» («Молчи, скрывайся и таи…») стала любимым стихотворением Льва Николаевича; он часто читал ее наизусть в домашнем кругу и однажды с жаром сказал: «Что за удивительная вещь! Я не знаю лучше стихотворения».
Николай Некрасов первым в печати высоко оценил талант Тютчева. Приведя в своей статье стихотворение «Как океан объемлет шар земной…», Некрасов восторгался: «Последние четыре стиха удивительны: читая их, чувствуешь невольный трепет». А о стихотворении «Осенний вечер» он сказал: «…каждый стих его — перл, достойный любого из наших великих поэтов».
Иван Тургенев, уговоривший Тютчева выпустить первую книгу и составивший ее, выразился категорично: «О Тютчеве не спорят. Кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии». Тургенев предсказал Федору Ивановичу будущую славу: «…такие стихотворения, каковы “Пошли, господь, свою отраду…» и другие, пройдут из конца в конец Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется шумным успехом».
Восхищались стихами Тютчева Ф. Достоевский, А. Фет, Н. Чернышевский… В двадцатом веке уже никто не оспаривал право Ф. Тютчева стоять в ряду великих писателей. Мы выросли с его стихами и можем только удивляться: неужели когда-то его не ценили?
Еще молодым Федор Иванович писал: «…я более всего любил отечество и поэзию». Но сколько же людей, благодаря стихам Тютчева, научились любить отечество и поэзию! И сколько еще научится!
1 Первый вариант этого стихотворения был опубликован в газете «Молва» в 1833 г., а затем, в новой редакции, — в пушкинском журнале «Современник» в 1836 г.
2 С. Раич переводил тогда сочинения Вергилия.
3 А. Мерзляков — профессор университета, поэт, автор знаменитой песни «Среди долины ровныя…», романсов, близких к русскому фольклору.
4 Речь идет о повестях прозаика, ровесника Тютчева Николая Павлова «Именины», «Аукцион» и «Ятаган», вышедших в 1835 г.
5 «Песни о Нибелунгах» — немецкий народный эпос о нибелунгах, обладателях чудесного золотого клада. Миннезингеры — средневековые немецкие поэты, «певцы любви».
6 Волково кладбище в Петербурге.
Андрей Румянцев, член Союза писателей России (Москва)







