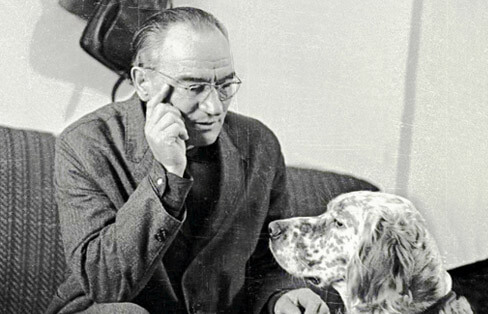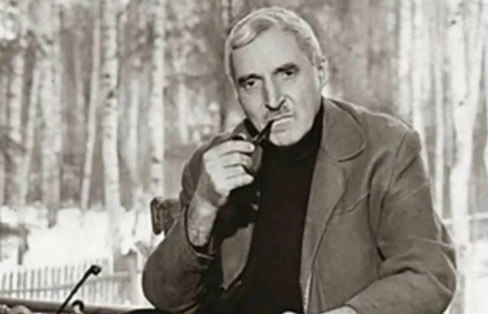Заповеди жизни и смерти
- 07.10.2025
На исходе последних жестоких сражений, в пыли разрушений и дымах горящих немецких городов Твардовский не уставал отмечать всякое сохранное и живое. Его однажды поразило, как в этом догорающем аду «с невиданной силой в цвету бушевали сирени».
В те дни за границей
нам думать и верить хотелось,
Что грохот войны
отгремит над землею усталой
И годы вернут
ее мирную свежесть и целость,
А бомбы и пушки
громить ее больше не станут…
В самом начале Второй мировой Молотов, стараясь отвести от нашей страны угрозу германского вторжения, говорил на пятой сессии Верховного Совета СССР: «Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это — дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за „уничтожение гитлеризма”». Это заявление не отвело вторжения вермахта на нашу землю. А Молотову должно было гордо заявить: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». В первые же грозовые дни страна приказала себе: «Вставай на смертный бой»! И советская литература, «верная долгу и приказу», открыла свои фронты против «идеологии гитлеризма», несущей унижения, смерть и разрушения.
В поэтическом мире Твардовского концепты «жизнь» и «смерть» будто навсегда заданы, они не только противоположны по своему пафосу, но и работают словно духовные заповеди: достойная жизнь — достойная смерть. Он идет к их постижению не от философских постулатов, а от народного опыта и миропонимания, от природного годового кругооборота и русской классики (Пушкин, Некрасов, Толстой, Достоевский, Бунин), от собственных духовных прозрений. Предмет его постоянных раздумий — народная жизнь и человек в единстве деятельности и душевных откликов на происходящее, неизменное и таинственное противостояние и нераздельность «прибылей — убылей». Через десять лет после окончания Великой войны Твардовский записал в своем дневнике: «Вернее всего перед угрозой смерти — петь жизнь во всей притягательности». Даже перед угрозой «главной утопии», ныне крайне обострившейся.
В случае главной утопии, —
В Азии этой, в Европе ли, —
Нам-то она не гроза:
Пожили, водочки попили,
Будет уже за глаза…
Жаль, вроде песни той — деточек,
Мальчиков наших да девочек,
Всей неоглядной красы…
Ранних весенних веточек
В капельках первой росы.
Бесцельных рассуждений над вопросами жизни и смерти Твардовский не любил. Они возникали у него по ходу дела — в связи с теми проблемами, которые он поэтически осваивал. Но от них он не уходил и решать их не боялся. Многие, писал он, беспечно ожидают, что смерть придет к ним в удобное время или вовсе забудет прийти. Но подобная беспечность, предупреждает поэт, «в час испытания реальностью нередко оборачивается животным трепетом перед ней, готовностью откупиться от нее чем угодно — вплоть до предательства». Замышляя Предисловие к первой книге своих стихотворений, Твардовский признается: «Огромным недостатком моих стихов, как и вообще, может быть, нашей литературы, является то, что мы темы социально-общественные, политические разрабатываем в абсолютном отрыве от таких вещей, как природа, любовь, смерть и т. п. Либо мы берем эти вещи как таковые и начинаем их разрешать марксически — ничего не получается. Может быть, за борьбой последних лет люди действительно очень отстранились от этих вещей, переживают их „дома”, обывательски, стыдятся их, эти вещи теряют перед ними свое величие. Не может же быть так».
Для дальнейшего нам крайне важна его дневниковая запись от 1–5 августа 1934 года, в которой видно, какой идеологией мог бы заразиться молодой поэт. Как бы продолжая Предисловие, Твардовский писал: «Да, смерть мое личное дело, то, с чем нужно встретиться в одиночку, что неизбежно встанет горьким концом жизни. — Но разве страшен этот конец за жизнь — такую, какой она может стать? — Я не буду искать утешений, не буду обманываться. Смерть никогда не будет желанной. И она — из тех вопросов, которые я должен разрешить сам, несмотря на то, что их уже разрешали лучшие из людей.
Большая жизнь и маленькая смерть.
Разве можно было бы не бороться за лучшую жизнь людей, не стремиться к истине из-за того лишь, что я, червяк, умру? — Ниже этого придумать нельзя».
В конце этой записи явно слышатся отголоски тоталитарной идеологии. Твардовскому 24 года, он студент, его родительская семья раскулачена и выслана на Северный Урал, его самого избивает критика как «кулацкого подголоска», и он порой готов поверить, что он чужой, враг. При этом разделяет советские установки: ему не страшно умереть ради будущей светлой жизни: она первостепенно важнее и больше жизни отдельного человека-«червяка», смерть которого «маленькая». Не отдает ли тут «колесиком» и «винтиком»? Эти мысли, будто занозы, не дают покоя Твардовскому до самой войны. Никита Моргунок пытался вырваться из «колесика» и стать хозяином, но даже долгое путешествие вернуло его на круги своя. Но он стал уже другим человеком и мог бы сам решить, какой путь ему выбрать и какому богу молиться.
На протяжении 30-х в потоке жизнерадостных стихов, знаменующих победу новой, счастливой жизни, у Твардовского часто появляются стихи-прощания, звучат похоронные мелодии. Они заметно понижали радостно-оптимистические интонации, усиливали ноты грусти, затаенной печали. Мемориальные мотивы исподволь корректировали мечты о светлом будущем, о социалистическом рае, в котором, оказывается, бывать всему: и горю, и радости, и жизни, и смерти. Человек радуется и страдает при любом строе, парады и овации не отменяют траурных процессий, улыбки плакатных богатырей — прощальных слез обыкновенных людей. Управляться с бедой делом — этот извечный народный завет был для Твардовского непререкаемой нормой. Узнав о смерти Горького, он утешает своего старшего друга М. Исаковского: «Миша, не надо особенно вдаваться в тоску. Покойник этого не любил. Работа — самая достойная память о нем». Что можно противопоставить смерти? Только жажду жизни. В отклике на смерть А.Н. Локтева (редактора «Западной области», по ходатайству которого он поступил в Смоленский пединститут) эта мысль существенно конкретизирована: «У него была страшная, мучительная жажда жизни, но не животная, не страх смерти, а человеческая, благородная страсть к жизни для труда, для большой жизни». Твардовский восхищался этим человеком, когда он был еще жив: «Кстати, он болен уже много месяцев подряд, но — удивительный человек — читает, интересуется всем».
На рубеже 30–40-х годов Твардовский участвовал в двух «освободительных» походах в качестве военного корреспондента газет «Часовой Родины» и «На страже Родины». Первый поход почти не оставил заметных следов в его творчестве, зато из второго он вынес многие мотивы и сюжеты своих стихотворений и поэм. Там он вел дневники и рабочие тетради и тридцать лет спустя опубликовал книгу записей «С Карельского перешейка». В силу особой важности этих записей для всего последующего творчества Твардовского о них необходимо сказать особо. Там, в снегах Финляндии, словно на испытательном полигоне, прошли проверку его жизненные и творческие установки, там лицом к лицу встретились жизнь и смерть — и натурально, и в поэтическом сознании. Прочитав эти записи еще до публикации, К. Симонов удивленно заметил: «Однако ты и тогда уж был гуманистом…» То есть, как бы преждевременно и неожиданно. Ведь гуманизм считался у нас буржуазным пережитком, эфемерным, вредным. Не лучше было и в Европе. «Во всем мире звучит колокол антигуманизма», — писал А. Блок после Октябрьской революции и Первой мировой. А в середине 30-х, перед взбухающей Второй мировой, гуманизм уже казался побежденным. «Сейчас, — бил тревогу А. Платонов, — есть смертная нужда, чтобы в мире появилась поэтическая, вдохновляющая, оживляющая сила, равноценная Пушкину и даже превосходящая его, потому что слишком велико всемирное бедствие».
Наперекор всему — жестокой северной войне, массовой гибели русских солдат, которых, малообученных и плохо одетых, гнали по глубокому снегу на колючую проволоку, записи Твардовского дышат жалостью и нескрываемым человеколюбием. Он в постоянной готовности встать рядом с солдатом в окопе, всячески помогать ему одолевать тяготы и страхи. Финская война показана в его записях с непривычной для нашей литературы (даже годов Великой Отечественной) обнаженностью, порой так натуралистично, что бьет по глазам. Стихи того же периода очищены и осветлены, но и в них он не обходит тяжелой, горькой правды, признаваемой тогда только победной.
Кругом земля стонала стоном.
У ног живых в снегу лежали
Убитые. Редел народ.
Носилок раненые ждали, —
Не доходил до них черед.
«Незнаменитая» эта война, как назвал ее Твардовский, поглотила в снегах и болотах сотни тысяч людей, а кто остался в живых, тот никогда не забудет кровавых атак и ледяных переправ (о них будет вспоминать и Теркин, кстати, воевавший на Карельском фронте). «Все было другое, чем думали там, когда стояли у границы», — записывает Твардовский, побывав на передовой. Что испытал он в глубоких снегах и завалах под свист пуль и разрывы снарядов? Вот его свидетельства: «страшная сила огня», «гул и грохот канонады», «жуткая ночь», «остались одни с трупами», «нам стало жутко», «тяжелое состояние подавленности», «ощущение великой трудности войны», «сжималось сердце» и т. п., а ведь он не из робкого десятка. Названная локальной, финская война была все же войной середины XX века, частью Второй мировой. Эта война, как и нагрянувшая через год Отечественная, превзошла своими масштабами и драматизмом все памятные события, в том числе и пережитый им «великий перелом». Твардовского развернуло к этому событию, он весь сосредоточился на происходящем в поисках противовесов смерти и разрушению.
Книга записей «С Карельского перешейка» очень личная, она родилась из встреч и бесед с участниками боев, изо всего, что было перед глазами. Ради чего шла эта война? Такой вопрос даже не возникал, но Твардовский на него ответил: «Все определялось тем, как армия, часть, боец воюет, какие у них успехи. Это было единственной меркой и оценкой всего». Но для себя он ответил по-другому: война — это смертоносная сила, губящая все вокруг. Погибают люди, животные, деревья, корчится во взрывах красота зимнего леса, прогорает в огне красивое, уютное жилье, обрушиваются хорошо сложенные, долго сохраняющие тепло, печи. В записях нет слов ненависти к финнам — она еще не пробудилась в русских людях за короткий срок этой войны. Твардовский спокойно смотрит, как наши дают хлеб пленным солдатам, как откармливают хлебом финского жеребенка. Сам он отогревает за пазухой бродячего финского кота, потерявшего свое жилище. При всей своей потрясенности, Твардовский испытывает какое-то промежуточное состояние: как оценить эту войну? «Об уроках этой войны говорят много, говорят критически и беспощадно к самим себе, к привычным понятиям и т.п.» Неопределенность была и в отношении к собственным замыслам: «Исключительной вещи мне на этом материале скорее всего не сделать. Но она нужна до зарезу, даже такая, какую смогу». Но эта «незнаменитая» война пробудила в нем замысел знаменитой «Книги про бойца» — его отраду, боль и подвиг «ради жизни на земле».
На финской войне Твардовский прошел короткую, но жестокую школу, как и на рубежах «великого перелома». Собираясь с силами для работы над новой поэмой, он вырастал там в поэта национального масштаба, а его лубочный Вася — в народного героя Василия Теркина. Было очевидно: главные события переносятся с колхозных полей на поля военной страды, народ переодевается в солдатские шинели. «Люди, с которыми за эти месяцы довелось встретиться, — пишет он Исаковскому, — и все, что привелось увидеть, сделали из меня почти совсем другого человека…». Ю. Буртин, кажется, недооценил этого крайне важного признания Твардовского: «Как ни сильны были впечатления от боев на Карельском перешейке, переворота в душе поэта они все же не совершили. Его совершила Великая Отечественная война». Однако факты свидетельствуют об обратном, да и сам Твардовский отмечает в дневнике после публикации «С Карельского перешейка»: «Мне-то они дороги, эти записи, потому что за ними поворотный в моей жизни период (зарождение замысла „Теркина”…)».
Финская война не успела занять умы и сердца людей, уйдя в длинную тень Великой Отечественной. Но для Твардовского она была новым испытанием, обогащала его глубокими мыслями и переживаниями.
С «Карельских записей» тема памяти и беспамятства становится главной тревогой и болью поэта на всю оставшуюся жизнь, вплоть до поэмы «По праву памяти». Даже в победные дни 45-го года, под гром пальбы и крики ликования, он пишет поминальную главу «Книги про бойца» — «Про солдата-сироту». Не боясь умалить величие Победы, которой отвечала бы героическая песня, он называет свою поэму «Повестью памятной годины».
На финской войне Твардовского насторожило, как быстро забывают об отдельном человеке: «Убит — и всё», как беспамятство входит в обычай. Вопреки этому он переполняет свои записи скорбными зарисовками: смотри, думай, запоминай. В них берет начало всевластная «жестокая память», навсегда вбитая в души людей войной.
Первоначально восприятие войны в записях не лишено романтической подкраски и победных ожиданий. Для Твардовского тут все впервые (этим многое объясняется), немало опасного и влекущего. Он нетерпеливо ожидает настоящего «дела», хочет увидеть, что же происходит «там» — на передовой, рвется «туда», где «должно быть решающее». Он суеверно ничего не называет напрямую, а только эвфемизмами, отсюда эти «там», «туда», «дело» и т.п. Но уже через несколько вылазок на линию огня романтическая пелена слетает с глаз. Разрушения, пожарища, поляны смерти, сгоревшие, замерзшие, раздавленные тела так потрясли его, что он не сразу мог найти нужные слова, чтобы об этом рассказать. Факты множатся, давят, вопросы жгут, но их осмысление идет где-то на бессловесном уровне, в глубине сознания. По интонациям и деталям заметно, как изменяется его художественное зрение и приемы поэтики. Максимально сокращается дистанция между автором и героем-рассказчиком. Война заставила автора говорить голосом героя и, наоборот, поручила герою замещать собою автора. Твардовский так сформулировал эту перемену в себе: «Я то и дело мысленно ставлю себя на место любого рядового красноармейца». И на деле он хочет быть рядом — в окопе, в атакующей цепи, на взятой высотке, ибо с командного пункта, в бинокль, мало что увидишь и душу солдатскую выразить не сможешь. Без такого сближения, без породнения и обмена голосов невозможен был бы редкий по слаженности многоголосый хор, какой мы слышим в «Книге про бойца».
Амплитуда оценок финской войны у Твардовского напоминает колебания маятника: от патриотического воодушевления («доблестный поход») до сдержанного, едва ли не критического отношения («на той войне незнаменитой»). А между крайними точками — неотменимая правда скоротечной убойной кампании, в которой воевали родные его сердцу русское люди, высокой ценой победно завершившие ее. Как бы в память об их жертвенном подвиге возникает замысел будущей «Книги про бойца»: «Кончится кампания, отдышусь от писания „в номер”, засяду основательно. Строчка за строчкой пропущу все через сито… Буду жив и здоров — будет книжка, какой я сам раньше вообразить не мог».
Чтобы написать такую книгу, надо было самому стать другим, возвыситься над собой. Она требовала творческой активности и смелости, свободы мысли и переживаний, живого, горячего, любящего слова. От финской войны, признавался Твардовский, «сознание постарело». А это означало, что что оно стало приходить в соответствие с реальностью, повернуло от романтически должного и заданного к действительно сущему. Великая Отечественная окончательно его отрезвила. Поразительные слова находим мы в его письме к жене как раз перед началом публикации глав поэмы в «Красноармейской правде»: «Мне ничего теперь не нужно, кроме моих близких, моих трудов и свободных размышлений. Эту-то свободу я приобрел за этот год. Слава богу, хоть износил кожу предрассудков с юности, запуганного догмами и всяческой современной поповщиной человека. Верю одной правде-истине, больше ничему». Только не отходя от нее поэт мог испытывать «святую сладость писания». Он отчетливо понимал, что «война повышает цену всему», поэтому весь, всем существом сосредоточился на войне, на ее видимой и невидимой работе, на ее стремительных рывках вперед и замедлениях, на всем, что она делала с природой, народом, человеком. Только такая всепоглощенность, только такая целеустремленность могла привести к творческой победе. Позднее эту общенародную сосредоточенность на войне, это жертвенное исполнение ее велений он выразит афористично и жестко, будто высечет на граните:
Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.
Конечно, Твардовский всегда, даже в суровых батальных картинах, находил контрапункты войне, умел ходить «стежкой иной», мирной: почуять запахи трав и пашни, услышать майского жука, увидеть каплю прозрачной смолы, слезой стекающей по теплому стволу сосны, порадоваться всякому растенью и цветенью, вспомнить о доме, о жене, о подросшем ребенке. Трудно сказать, чего больше в его стихотворениях и поэмах о войне — мира или войны. Он, кажется, умиротворяет, одомашнивает саму войну, обезоруживает простыми благами мирной жизни. Не просто воюющим людям, а «на войне живущим людям» посвящает он свою поэму. Теркин — примерный воин, бесстрашный и храбрый солдат, но за всю войну он не убивает ни одного немца. В это трудно поверить, но это не отступление от правды образа, не уступка пацифизму, а невозможность демонстрировать в поэме кровавые дела защитника Родины, как это делали немцы при захвате каждого нашего села или города. В первоначальном варианте главы «Поединок» (В разведке. — Красноармейская правда. — 1942. 13,14 октября. — №№ 284, 285) Теркин, одолев врага в отчаянной рукопашной схватке (аллюзия Сталинградской битвы), оставляет его в живых и отпускает восвояси. Как же так? Почему? Может, потому, что оба обессилели в драке, и Теркин уже не мог тащить его в батальон. Или пожалел его как солдат солдата? (такое бывало). Но в окончательном варианте он ведет его в плен как «языка». Однако, когда дело дошло до «окончательного решения вопроса», Твардовский, хорошо зная, что принес нам фашизм, не отверг эту «окончательность». В его рабочих тетрадях есть строки, которые могли бы принадлежать скорее маршалу Жукову, чем поэту: «Ничего умнее и справедливее того, что немцев нужно добить, не считаясь ни с чем, не давая никакого послабления, ужас их положения доводя до самый крайних крайностей, — ничего нет. Это меньшее страдание на земле, чем то, которое было и было бы при наличии неразгромленной Германии…» Отдельно от содеянного фашистской Германией взятые, эти слова способны вызвать оторопь, но на фоне всех ее злодеяний они звучат адекватно и справедливо. И предупреждающе. Потому что фашизм прорастает повсюду, как сорная трава пырей, корни которого, переплетаясь глубоко в земле, могут задушить все плодоносное поле… Строки эти написаны 15 марта 1945 года в Бишдорфе, когда Твардовский работал над самой скорбной, подводящей итоги войны, главой «Про солдата-сироту». По его словам, эту главу «нужно было позарезу дать… в газету». А за три дня до этого он пишет жене: «Вообще знаешь, что трудно сейчас. То, что вид страданий гражданского населения (какое бы оно ни было, но это дети, старость, санки, ручные тележки и т.п.), как и вид разрушений и прочего, не только не целит ран души, но скорее бередит их». Возвращаясь снова к этой ране души, видя, как страдают женщины-немки — «несчастные, согнанные со своих мест бесправные люди», он объясняет их положение не только войной, но их покорностью вообще. «Для меня война, как мировое бедствие, страшнее всего, пожалуй, своей этой стороной: личным, внутренним неучастием в ней миллионов людей, подчиняющихся одному богу — машине государственного подчинения»: работать или убивать — все равно. «Можно, конечно, страдать от того, что происходит множество безобразий, ненужной и даже вредной жестокости (теперь только вполне понятно, как вели себя немцы у нас, когда мы видим, как мы себя ведем, хотя мы не немцы)». Да, от много на войне нельзя не страдать, не возмущаться, но «приходится признать, что все, сопутствующее оккупации, почти неизбежно… что наша оккупация, оправданная к тому же тем, что она потом, после, в отмщение, — что она могла бы проходить иначе». Твардовский не затушевывает и наших «грехов», но он пытается докопаться до первопричин, до этических оснований и загадок самой войны, не обходя их трагического разрешения, доводя ужас положения врагов «до самых крайних крайностей», до невозможности нового drang nach Osten…
Силам, несущим людям унижения и смерть, Твардовский всегда заявлял решительное «нет». Напротив, перед силами добра и правды он горячо принимал обязательства служения, стремился «сделать нечто очень нужное людям, которых люблю так, что при мысли о них сердце сжимается». Возникало «такое ощущение частного счастья, как если бы я совершил подвиг или готовился к нему». Подобное он испытывал в работе над «Книгой про бойца». Это стало его вторым фронтом — творческим, на котором он «в свою ходил атаку», нередко против своих, когда ему навязывали «проходные» решения.
На страницах «Красноармейской правды», где Твардовский служил в должности военного писателя, разговоры со смертью и о смерти не редкость. «Презрение к смерти» и «Большевики побеждают смерть» — названия статей Г. Улаева. «Люди, презирающие смерть» — так озаглавил свою статью Ц. Солодарь. «Презрение к смерти рождает героев и обеспечивает победу над врагом» — таков редакционный заголовок в одном из номеров. Передовая статья «Во имя Родины» провозглашала: «Жизнь и смерть Родины — это твоя жизнь и твоя смерть!» И далее: «Дело идет о жизни и смерти! Но великий народ не может умереть, а чтобы жить, надо преградить путь врагу, надо победить!» Однако в тылу со словом «смерть» не в меру осторожничали. Редакторами избранных глав «Василия Теркина», вспоминала Мария Илларионовна, «изымалось всякое упоминание о гибели и смерти. С точки зрения военной редакции, советская армия представляла собой в полном смысле слова коллектив бессмертных бойцов».
Лозунги «Смерть фашистской гадине» в «Красноармейской правде» столь же часты, как и призывы расстреливать своих: каждый, кто уклонился от боя, писала фронтовая газета, «в этот тяжелый для Родины час должен погибнуть от карающей руки народа». Ни о каких попытках принять покаяние, простить за минутную слабость и вернуть в окоп речи не было. На обеих сторонах фронта война диктовала свое. В редакционной статье «Упадническое настроение немецких солдат» читаем: «Фашистские заправилы внушают своим солдатам, что „самым красивым и почетным делом в жизни германского солдата является смерть”». В обращении командования Западного фронта говорилось: «В час грозной опасности для нашего государства жизнь каждого воина принадлежит отчизне». Постоянно пропагандируемое презрение к смерти нередко оборачивалось презрением к человеческой жизни: побеждать во что бы то ни стало, не считаясь, не удручаясь количеством погибших. «Как мне памятны, — пишет Твардовский спустя годы после войны, — по первым (и не первым) дням и неделям войны всеобщий панический пафос жертвенности („пасть за родину”), запретность и недопустимость мысли о сохранении жизни своих. Отсюда и требования самоубийства во избежание плена». Генерал в одноименной главе «Книги про бойца», посылая солдат в бой, отправляя их на смерть, сразу прощается с ними. Наверно, так легче, не видя их, а только рисуя стрелки на карте.
В поэзии Твардовского презрение к смерти означало не готовность тотчас погибнуть, а стремление победить смерть ради жизни. Даже погибая, человек оставался у него «живым и теплым», а письма от погибших, словно от живых, шли и шли домой. Жизнь для него — самая высшая ценность, он постоянно напоминает об этом солдату-окопнику. Во второй части поэмы «Василий Теркин» он заявляет о том, что хотел бы идти мирной стежкой, а не тропой войны, что ему «сказка мирная милей», чем фронтовая. Сказка одновременно и о будущем, и о прошлом.
О судьбе, что в гору шла,
О той жизни, что была,
За которую сегодня
Жизнь отдай, — хоть как мила.
Сама война порой становится у него горьким напоминанием о жизни, как это ни парадоксально звучит. В августе 1944 г. (любимая его пора) Твардовский записывает в рабочую тетрадь: «Кажется, вообще не осталось ни одного перехода во временах года, ни одного памятного ощущения, запаха, чтоб это уже не связывалось с войной. И, наверно, всю жизнь будет напоминать она всем, что есть самого дорогого в природе». С особой силой зазвучали эти мотивы во второй половине войны, когда воочию увиделось, как исстрадалась, как постарела от нее сама природа: «Большое лето», «В Смоленске», «Ветром, что ли, подунуло…», «Здесь немцы были», «Минское шоссе», «В литовской усадьбе», «В поле, ручьями изрытом…» и др. Она, русская природа, действует на человека с такой пронзительной, чарующей силой, что кажется, «как будто войны никакой», что «нет ни этих немцев на свете, ни расстояний, ни лет». Но эта сила не расслабляет, не мешает храбро воевать. А фронтовой быт стал приедаться, «человек как бы говорит: хватит, дайте мне просто небо, без самолетов, дайте мне просто шутку, без смерти, стоящей за ней».
С завидным постоянством всю тяжесть впечатлений от нашего отступления он оставляет в себе, пытаясь избавить от них любимого человека — жену Марию Илларионовну. Переписка с ней — это непрерывный диалог одоления военного лихолетья. Сто тридцать писем и телеграмм с войны в Чистополь и Москву, по словам их дочерей, «могут быть прочитаны как повесть о жизни семьи, разделенной войной», как самоотчет поэта о работе писателя на фронте и как творческая история великой поэмы, подробностей создания которой «нет ни в одном исследовании». Чтобы не ранить родную душу, Твардовский преднамеренно приглушал, скрадывал опасное, страшное шествие врага на восток по нашей земле, внушал веру в нашу неизбежную победу, как это бывало при других нашествиях. Но при этом не утаивает правду, невольно проговариваясь: «Здесь все совсем по-другому. Это не Финляндия». Как бы там ни было, пишет он, «не унывай, раздумывая о нашем отходе. Он будет, может быть, даже большим, чем ты представляешь, но это путь к победе. Родине нашей случалось и без Москвы оставаться на время, а не то что». Как эта заповедь напоминает знаменитую политбеседу Теркина:
Не унывай.
Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы — не помрем.
Срок придет, назад вернемся,
Что отдали — все вернем.
Когда воочию увидели следы страшных злодеяний фашистов на наших оккупированных территориях, в самых грозных интонациях зазвучали в газете призывы о возмездии. Священник Д. Азаренко, обращаясь к солдатам, офицерам и генералам Красной Армии, писал: «Неустрашимо идите вперед. Дело наше правое и святое. Добейте фашистскую гадину». Журналист И. Арамилев в статье «У могил расстрелянных» (в роще у поселка Легеново, близ станции Понари было расстреляно 200 000 советских людей) продемонстрировал, как одно зло порождает другое: «Русские люди добры и мягкосердечны. Но всему есть предел. В борьбе с немцем доброта — зло. Пусть каждый из нас, бойцов и офицеров, считает потерянным тот день, когда он не убил немца. Забудем все иные чувства, кроме ненависти к немцу. Подавим в груди все желания, кроме одного — убивать немца». Такое можно понять. И это не нуждается ни в осуждении, ни в оправдании. Однако Твардовский каждой своей строкой пробуждал в русском солдате «чувства добрые», готовил его к возвращению домой, к заботам и радостям мирной жизни.
На войне, писал Л. Толстой в «Севастопольских рассказах», «мысль очень обыкновенная — мысль о смерти». Картинами гибели, ее угрозами, ее предчувствиями, мыслями о смерти отмечены все страницы «Книги про бойца». Смерть разбойничает на всех дорогах и переправах, на всех полях сражений, на огромных пространствах России и Европы. В конце концов она становится синонимом войны, доминантой происходящего. Смерть здесь — «дело привычное», к ней относятся без паники и дрожи, о ней говорят с грубоватой шутливостью, как принято в речевом солдатском обиходе: «Вдруг как сослепу задавит, — / Ведь не видит ни черта», «Может в голову ударить, / Или попросту, в башку», «Бомба — дура. Попадет / Сдуру прямо в точку», «Потерять башку — обидно, / Только что ж, на то война», «Но отнюдь не заколдован / От осколка-дурака», «И хотя бы плюнь ей в морду, / Если все пришлось к концу», «Изнывая, ждешь за кочкой, / Скоро ль мина влепит в зад», «Так пошла ты прочь, Косая» и др. В главе «Смерть и воин» и Человек, и Смерть написаны с большой буквы: в диалоге тут не только Василий Теркин и его «личная» смерть, а метафизические величины, уровень философского поединка жизни и смерти. Об этом в поэме есть иные слова и строки, исполненные величия и печали, неутешного горя и страдания, боли и слез. Твардовский произносит их не без оглядки, боясь лишний раз поранить и без того израненное солдатское сердце. И все же произносит, потому что за ними правда войны, следовать которой он положил себе за правило. Приведем лишь самые показательные: «Люди теплые, живые, / Шли на дно, на дно, на дно», «Спят бойцы. Свое сказали. / И уже навек правы», «И забыто — не забыто, / Да не время вспоминать, / Где и кто лежит убитый / И кому еще лежать», «Ветер злой навстречу пышет, / Жизнь, как веточку, колышет, / Каждый день и час грозя», «Там печаль свою великую, / Что без края и конца, / Над тобой, над речкой выплакать, / Может, выйдет мать бойца», «Смертью праведной и честной / Пали многие из них», «И в одной бессмертной книге / Будут все навек равны…», «Скольких их на свете нету, / Что прочли тебя, поэт». Как-то не замечалось, что именно «павшим памяти священной» посвятил свой любимый труд Твардовский, а не Верховному, как писали во фронтовой газете почти все после Победы.
В противовес смерти выдвигается единственное, что ее может осилить — не поддающийся ей воин, русский труженик-солдат, который не только прогонит Косую, но и покончит с войной, спасет от врага Родину, Россию. У солдата и народа есть священное задание, которое они непременно должны выполнить: «Жизнь от смерти отстоять».
Первые главы поэмы написаны щадяще, Твардовский пытается говорить о войне как можно мягче, отвлекающе, вытесняя черные мысли о наших поражениях балагурством, шутками-прибаутками, но при этом, не скрывая своих намерений следовать правде, какой бы неудобной и горькой она ни была: «Это присказка покуда, / Сказка будет впереди». Он не сразу удивляет и пугает нас «смертным боем», картинами массовой гибели, тягостного и постыдного отступления, а говорит о воде и пище, о махорке и шутке, о поваре и ночлеге, словно отводя от пропасти, однако вскоре погружает в «сказку», в громокипящий котел войны, в ненасытную прорву смерти. Можно сказать, ближайшим визави солдата всегда оказывается смерть, она ни на минуту не оставляет его без прицела. Чаша весов его судьбы постоянно колеблется, знаменуя онтологическое равновесие жизни и смерти в бытии людей. Нередко беря верх, смерть нарушает привычные связи и поддержки, оставляя зияющие безмолвия и пустоты. У смерти отнюдь не окопное измерение, она так же всеобща и многозначна, как и далеко от линии фронта. На войне ей противостоит энергия и воля человека, его готовность и умение победить в схватке. Порой человек оказывается на переходе от жизни к смерти и обратно. Еще бегущий в атаку молодцеватый лейтенант, сраженный пулей, крикнул бойцам: «Я не ранен. Я убит». А Теркин, по всем признакам покойник, дважды оживает в поэме.
Более 200 раз (208) в тех или иных вариациях прозвучала на страницах «Книги про бойца» «смерть». И подобное — во фронтовой газете! на войне! при жесточайшей цензуре! когда это слово, как и «отступление», было под негласным запретом, когда в несколько раз занижались наши потери. С беспощадной жадностью поглощает смерть наших бойцов, «живых и теплых», в главах «Переправа», «Дед и баба» (по 9 словоупотреблений), «Бой в болоте» (17), «Кто стрелял?» (19). И с запредельной настойчивостью зазвучала она в главе «Смерть и воин» (54 словоупотребления). Эта глава в редакции «Красноармейской правды», по словам поэта, «вызвала зловещий шум и толки» неприятия именно по этой причине. Здесь из невидимой губящей силы она превращается в инфернальное живое существо со своим именем и обликом, со своим лексиконом и повадками, даже со своей концепцией человеческого существования: концепцией бездействия, распада, непротивления злу, предательства, поражения.
В годы войны, когда в мире правило «зло несытое», порой казалось, что лучше умереть, чем жить. В поэтическом дискурсе Твардовского формируются оксюморонные формулы, которые схватывают этот трагический парадокс бытия: «живая смерть», «жизни даст», «у смерти под защитою», «жив остался — не горюй», «в горький, грустный праздник свой», «сам не знает: жив, убит?», «печальный и протяжный стон: „Ура-а…”», «рай с передним краем — это смежные места», «немец жить велел живым», «жить живи, дышать не смей», «все же вроде как жива», «со страдальчески-счастливым, от жары открытым ртом» и т.п. Даже веселый сельский праздник сабантуй оборачивается артобстрелом и бомбежкой, а майский жук — вражеским бомбардировщиком.
Смерть в XX веке обрела такой размах, что осмелилась заявить о своем превосходстве над жизнью. Она действует уже не только физически (оружие, эпидемии), но и убеждением, прикидывается избавительницей от земных неурядиц и бед, сулит облегчение от тягот повседневного существования. В ее лексиконе и ласка, и похвала, и угроза, она находит такие аргументы, против которых трудно возразить. Однако на все ее увещеванья сдаться Теркин отвечает по-солдатски прямо и однозначно:
Так пошла ты прочь, Косая,
Я солдат еще живой.
Буду плакать, выть от боли,
Гибнуть в поле без следа,
Но тебе по доброй воле
Я не сдамся никогда.
Один из главных уроков поэмы: за жизнь надо сражаться. И не только с врагом, несущим смерть, но и с самим собой, со своими слабостями и скорбями. На войне любой путь спасения, кроме как тропой мужества, героизма и самопожертвования, может оказаться предательством. Физическая смерть героя обретает компенсацию в его духовном и нравственном обаянии, в народной памяти о нем. Память у Твардовского — как бы вторая жизнь, она многослойна и действенна, она уходит в глубины истории, в далекую череду поколений и равносильна бессмертию.
Твардовский начинает «Книгу про бойца» размышлениями о воде, пище, шутке и правде. Почему? В них опора жизни — физической и духовной. Правда, какой бы она ни была, в конце концов подтверждает солдатский подвиг, а без этого он не может вписаться в историю. Вода, как один из важнейших пособников жизни, в поэме необычайно многозначна. Это и спасительный глоток влаги, и неодолимый водный рубеж, и победная переправа, и темная прорва смерти, бесследно поглощающая людей. А в финале поэмы она омывает солдата от грязи, пота и копоти войны, являя нам человека во всей его природной телесности, со всеми отметинами отгремевших сражений. В заключительной главе «От автора» спасительная влага обращается в поминальную чарку по миллионам павших, которую мы пьем и поныне.
Апология всего живого означает у Твардовского, что на жизнь нельзя посягать. Для него это высшая ценность, вне забот о которой любые замыслы несостоятельны. Наша советская история — подчас бесцеремонное и жестокое посягательство на человеческую и природную жизнь. Насилие стало орудием большевистского государства. Забыто было о милости к подвластному народу. Критики избивали Твардовского в 30-е годы не только за «симпатии» к кулакам, но и за то, что он считал их обычными людьми. А он ценил все, что работало на жизнь, на поддержание человека. Однако не всякую жизнь славил он, а только добрую, радующую, жизнь не только для себя, но и для других. Превыше всего для поэта животворящая природа, частью которой является человек, благодаря чему победа смерти над ним не абсолютна, над ней берут верх таинственные силы жизни — наш общий на земле ходатай. В «Доме у дороги» новая жизнь зарождается в немыслимых для жизни условиях концлагеря. Родившийся там ребенок на какой-то момент оказывается даже сильнее матери, вернее, благодаря ему она становится увереннее в поединке с небытием, вкладывая в уста ребенка свои клятвенные слова не дать погаснуть на ветру войны этому маленькому огоньку жизни.
И так, порой полумертвы,
У смерти на примете,
Все ж дотянули до травы
Живые мать и дети.
Глава восьмая «Дома у дороги» — один из самых мощных голосов XXвека во славу жизни: и голос матери, дающей жизнь, и голос ребенка — самой этой жизни. Перекличка с главою «Смерть и воин» здесь очевидна: Анна Сивцова и Василий Теркин побеждают «ради жизни на земле».
Во все периоды творчества слово «смерть» у Твардовского едва ли не самое «напоминательное». Помнить о смерти — значит поверять себя: достойной ли была твоя жизнь? С чем ты придешь к финишу? Смысловые грани смерти в его поэзии проступают отчетливо. Это конец земной, физической, телесной жизни. Разлучение души с телом. Переход к жизни вечной, духовной. Обретение памяти в остающихся жить. Смерть — неизбежный и закономерный финал всего живущего и цветущего, но финал, дающий начало другой жизни. К такой смерти Твардовский толерантен, хотя она всегда не ко времени. Но если смерть предумышленна и насильственна, если она намеревается подавить, запугать человека, он готов послать ее куда подальше, не стесняясь в выражениях («Ты дура, смерть» и т. п.). «Законную» смерть он готов встретить достойно, без панической суеты и обиды на всех остающихся жить.
По крайности — спасибо и на том,
Что от хлопот любимых нет отвычки.
Справляй дела и тем же чередом
Без паники укладывай вещички.
Смерть — явление не только личностное, человеческое вообще, но и природное, космическое, она в круговороте всего сущего, поэтому не вызывает у него протестного порыва. А вот над душой и памятью она не властна. Человек подобен дереву: тело его природное, земное, а душа, дух (крона) — жилец небесный. Только две вещи не принимает Твардовский: претензий на бессмертие и мертвечину, которая опаснее смерти. Смерть всегда возмещается жизнью, а мертвечина — это царство видимостей и подмен. Для Теркина предпочтительнее быть на войне под пулями и бомбами, чем быть не собой. На войне можно выжить, там все во власти живой случайности, а на том свете мертвечина непримирима ко всему живому, обнуляет всех и все…
В поэтическом мире Твардовского отразилось не только пространство войны, «дни беды и дни побед», но и в полную силу заговорили заповеди жизни и смерти, впервые прозвучавшие, может быть, в глубокой древности. Они прозвучали не праздно, потому что мы оказались на краю, у обрыва истории, но спаслись жестокой ценой борьбы и потерь. О неизбежности поражения врага и возмездия за все его злодеяния Твардовский говорил все годы войны. Но впечатления от картин разгрома вражеского логова оказались не только радостными, но и мучительными, как и от картин нашего отступления. Многое скрасила победа, но она так и осталась со слезой на глазах, и чувство нашей правоты в борьбе «ради жизни на земле» — она была не напрасной.
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она… спасена.
Еще в 1943 году И. Эренбург написал: «Когда бушует стихия войны, писатель пишет скрижали человеческих заповедей». Твардовский поручил высказать свою главную заповедь солдату, погибшему подо Ржевом:
Я вам жить завещаю, —
Что я больше могу?
Но жить не как придется, а «с нашей верой согласно» — праведно и справедливо.
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Великая война победно, в кровавых и жестоких боях подходила к завершению. Чем и как она должна закончиться? Кто и почему пришел на чужбину? Двумя передовыми статьями ответила «Красноармейская правда» на эти вопросы, ответила так, как мы могли бы сказать сегодня. Статья «Воин-освободитель» предстала перед наступающими войсками 22 ноября 1944 года, за полгода до Победы: «Каждая вдовья слеза жгла наше сердце, плач обездоленных детей доносился к нам через линию фронта и будил великий гнев, который не знает примирения…
Во имя правды и справедливости пошли мы к немцам, во имя правды и справедливости мы по трупам врага войдем в Берлин. Во имя той же справедливости мы согнем фашистскую Германию в бараний рог и сделаем так, чтобы немцы больше не посмели угрожать нашей Родине».
Вторая статья — «Честь и достоинство советского воина» — появилась после Победы — 18 мая 1945 года. В ней не угасает жар полемики с «идеологией гитлеризма»: «Не жажда крови, не стремление к наживе привели советского солдата на площади европейских столиц… Наш воин в повседневном обиходе, в отношениях с мирным населением вел себя как представитель армии, борющейся за справедливое дело… Он, воин-мститель и в одно и то же время воин-освободитель, не мог уподобиться ни на одну минуту, ни в чем солдатам вражеской армии, воспитанным в духе грабежа и человеконенавистничества». И тут же, как и у Твардовского, прозвучала заповедь на мирное время: «Мы победили. Но это не значит, что теперь можно понизить требовательность к себе и другим».
Это боевая, горячая, искренняя публицистика, предлагающая важнейшие поводы для размышления. В стихах и рабочих тетрадях Твардовского открывается более широкое пространство, не только «дни беды и дни побед», но и беспределы жизни, народного бытия. Ему важно было «сомкнуть оба пола времени» в нечто целое — как переплетение причин и следствий, объясняющих и дополняющих друг друга. Для него оказался особенно трудным заключительный этап войны, когда со всей очевидностью открылись и победный, и трагический лики войны, когда душу переполняли и звуки гимна, и мелодии реквиема.
О неизбежности поражения врага и возмездия за все его злодеяния на нашей земле Твардовский писал все годы войны. Но впечатления от картин разгрома вражеского логова оказались столь же гнетущими и ранящими, как и от наших сожженных сел и городов. Победное шествие Красной Армии на запад воодушевляло и радовало, но оно было не менее жертвенным, чем отступление на восток. В лексиконе Твардовского всегда звучат такие слова, как возмездие, отмщенье, месть, кара, расплата, священная месть, судный час, праведный суд, святое пламя отмщенья, час исполнения гнева, казнь права, плати по счетам, Германия, мы справим суд свой до конца, срок расправы, час расплаты грозной, пусть будет жестокой расплата, ходит зоркая месть, смертная кара, за все это надо спросить, клятва нашей мести, гнев и суд, что всех суровей, огонь врага огнем поправ, мы щадить не вправе и т. п. Но заметим, как настойчиво звучат у него не эмоциональные, а духовные определения этих порывов: святой, священный, праведный, правый, святой и грешный, помолившихся за нас, сильны святым порывом, павшим памяти священной и др. Таким же святым и правым назван в поэме страшный, кровавый бой ради жизни на земле. Тут сошлись концы и начала, проступила логика главного события XX века — Второй мировой: преступное начало под знаменем «идеологии гитлеризма» и святое право возмездия ради жизни на земле. Иного не бывает. Но можно ли навсегда покончить с этой идеологией? Вряд ли…
Но как неожиданно, как изумительно завершает поэт свои фронтовые записи в рабочей тетради! На последних страницах три эпизода от 1-го и 3-го мая 1945 года: три локальные, но символические картины на фоне укрощенной, поверженной Германии. Первая — прозой и стихами — о немецком скворце, хлопочущем «в садике горелом» по своим весенним делам, знать не знающем, что творится в мире: главное — обустроить свой дом для будущей семьи, потому что «война войной, а плодиться надо». В тех же заботах занят и русский скворец где-то под Москвой, поющий о том, «что теперь устроить дом — вот что, дескать, главное».
Вторая картина так же локальна, но она повернута к извечным человеческим заботам и так же символична: на ней «зеленеющая Германия, где пашут и сеют те, что недавно пришли сюда и вряд ли останутся еще на год (солдаты), либо те, что были пленниками и не хотели оставаться здесь ни одного лишнего часа, либо те, что должны были защитить эту землю, откуда они ходили по всей Европе, а сейчас в плену на ней». Редко у кого можно отыскать такую исторически емкую, значимую картину: весеннее поле объединило врагов, победителей и побежденных общим делом, пахотой и севом для будущего урожая — «ради жизни на земле».
А третья картина — салют Победы: «Стреляло все, что могло как-то стрелять в городе, начиненном фронтовыми и прочими учреждениями… Охрана поезда начала из автоматов, не выдержали и все, в том числе я, стали разряжать не чищенные по году пистолеты в воздух. Необыкновенное, самозародившееся и незабываемое»…
Этот салют и солдатам-победителям, и скворцам, устраивающим гнезда для нового поколения, и тем, кто пашет и засевает землю зерном будущего мира на земле…
Виктор Михайлович Акаткин родился в 1939 году в селе Березняговка Усманского района Воронежской области. Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, литературовед, литературный критик. 25 лет работал деканом филологического факультета Воронежского государственного университета. Публиковался в журналах «Подъём», «Вопросы литературы», «Русская литература», «Литературное обозрение», «Филологические науки» и др. Автор более 500 публикаций о русской литературе XIX–XXI вв., из них 14 книг. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.